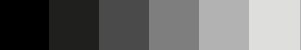Тетрадь вторая
КОММУНАЛКА
1960 - 1963
МОСКОВСКОЕ
Где-то здесь, где-то здесь,
в пустоватом интерьере,
где и в мебели - не спесь,
а усмешка недоверья,
где лягушки на портьере
улыбаются во весь
глупый рот - в противовес
тьме возвышенных материй;
где-то здесь, где любят ром,
виртуозно варят кофе,
где над письменным столом
старика лукавый профиль,
где снимают с полок том
и смакуют чьи-то строфы,
где вкусили философий
с материнским молоком;
где-то здесь, где слово страсть
не напишут без кавычек,
любят в чай варенье класть
и не любят истеричек,
и умеют умерять
непокорную подкорку
и не станут умирать,
потеряв любви подпорку, -
здесь вот истина живёт,
и её с пометкой "Тише!"
применяют без афиши:
словно грелку на живот.
1960
***
В.Х.
Ах, не стихи писать, а музыку писать.
Да не писать - а поспевать за повестью,
чтоб закружилась нотная тетрадь,
как те боры и долы в скором поезде.
И не оглядываться, не оглядываться,
чтоб раньше срока не обрадоваться
всему промчавшемуся, созданному,
полуосознанному.
А после - за руку вести себя назад
и заново ему показывать глазами
края, где зарево, где ласточки скользят
и пролески сквозят, и провода гудят,
не угонясь за поездами.
1960
ЧАЙ
Пришёл Сашка. Хочет чаю.
А я ему наливаю.
Ну и пьёт, чёрт! -
С подбородка течёт.
Пей, Сашка. Дать еще?
Горячо? Не горячо?
Капли пота на губе.
Пей, Сашка.
Дай налью-ка и себе
чашку.
196О
ДЕНЬ ТАКОЙ
В такой дождливый день
детей увозят с дачи.
В такую мокротень
в рукав ладони прячут.
И ноги обтерев,
носки над плиткой сушат.
И мокрый шум дерев
сливянкой дома глушат.
До книг охоты нет -
за шахматы садятся...
Иметь бы кабинет:
курить, писать, валяться.
Но так, чтоб за стеной
младенец бил в ладоши,
Кряхтел старик больной,
сдирая с ног галоши.
Чтоб ветка на дожде
за окнами плясала.
А на сковороде
шипело в кухне сало...
1960
РАННИЕ ПОЕЗДА
Я ими всеми побежден...
Б.П.
Забито снегом Переделкино. Плечом не высадишь калитку.
И как на плёнке передержанной, поселок слеп и недовыткан
Крутым яйцом и чаем наскоро
дымятся губы на морозе.
В мозгу бело, и рифмы заспаны и сдвоены, как след полозьев.
Вбирать рассвет бровями в инее. Идти, белея в негативе,
и коченеть до самой линии в демисезонном на ватине.
И хлопать валенком о валенок, взобравшись на перрон из досок...
Но вот, из-за лесов заваленных - сирены хриплый отголосок.
Вокруг, мерцая папиросками, с молвой житейскою, мирскою,
идет мостками, как подмостками, закутанное Подмосковье.
Зятьями, снохами и свёкрами переполняется платформа.
И тянет пряниками, свёклою, овчиной, варевом для корма...
Вагон. Глазищами бездонными попутчиков окинув мельком,
вслед за мешками и бидонами он пробирается к скамейкам.
Ему твердят, что в дни великие
повесток, митингов, развёрсток
в домах осыпались религии, как ёлки в "дождиках" и звёздах.
Что связи вечные разрушены
пятой железной и бетонной.
И нет душе иной отдушины, помимо бездны отворённой!
Но детский плач. И вёдер лязганье. И спор о ценах за спиною.
И говор акающий, ласковый. И смеха молоко парное!
У окон спят. В углу раскашлялись. В дверях мешки берут на плечи.
Вагоны катятся раскачливо, подобно акающей речи.
Все реже стук; уже передние
заходят за угол вокзала.
И солнце в белом оперении седые окна продышало!
1961
БЕТХОВЕН
По площадям в огне реклам. По улочкам, где дух жаровен.
Сквозь толчею пальто-реглан. Среди борделей и диковин.
Среди процессий и костров, автомобильных катастроф,
ссутулившись, идет Бетховен.
Пригнувши голову, как бык, он подагрически ступает.
Его высокий воротник листва и перхоть посыпает.
Он гладко выбрит и скуласт. И на пути встречаясь с нами,
он побивает нас камнями
тяжёлых глаз.
Он глух. Не слыша ничего,
пытается упорным взглядом
постичь: какое торжество
опять отмечено парадом?
Зачем дрожат колокола? И запрокинуты фанфары?
С чего бы вновь на праздник старый
его Европа позвала?
Глухого обмануть легко. Не раз, не два к нему взывали,
когда трухлявое древко
во флаги новые вдевали.
Его тащили на балкон
вслед за ораторами в хаки.
Его вели перед полком. И в руку вкладывали факел!
Его никто не проведёт. И на пути встречаясь с нами,
он замкнуто сжимает рот
и побивает нас камнями.
1961
АВТОПОРТРЕТ
Внутри меня,
где путаница бархатных портьер,
скрещение канатов и фанер
и винтовые лестницы из жести,
внутри меня,
в каком-то месте
есть маленькая сцена, и партер,
и свет софитов, как лучи в соборе,
и публика давно уж в полном сборе.
Я слышу гул, скрипение рядов
и хлопанье откинутых сидений.
Распахнут занавес, и дирижер готов.
Суфлёр готов. И бутафор готов.
Но где же он - громкоголосый гений?
Проходит год. И сто годов. На сцене -
лишь зыбкое двоенье светотени.
Поклонники друг другу подают
через ряды отчаянные знаки.
Уже в проходах женщины снуют.
И вот уже расходятся зеваки.
редеет зал, и через пять минут
один лишь я застряну тут во мраке.
Так погасите ж рампу!.. Но она
как веки, по краям воспалена.
А я ношу галоши в гололёд. Пишу рецепты. Заполняю бланки.
Тащу в плетёнке свертки и буханки.
И мне ушанка новая идёт. И на меня идёт зарплата в банке.
А между тем, согнувшийся в дугу
в одном из кресел мертвого театра,
я жду его. Мне ждать его приятно...
Дай Бог такое злейшему врагу!
1961
КОММУНАЛКА
Где голодно, там слухи, слухи... В подъездах топчется беда.
Ждут заварухи, ждут разрухи, войны, разлуки навсегда.
А между тем, берут лимоны, вставая в хвост очередей.
Переполняют стадионы. Фотографируют детей. В метро с мороза
вносят лыжи, на острия надев чехлы. По вечерам шампанским брызжут
на именинные столы.
Я коридор натёр до лоску. И похвалив меня за труд,
соседка обещает ложку - "Когда повестку вам пришлют".
От юмора её поникший, интересуюсь невпопад:
- Зачем же ложка?
- В голенище! А то какой же вы солдат!
...Неотоснившееся детство! Налёты, крики, погреба.
Выходит, никуда не деться. Судьба.
Она вернёт, вернёт сторицей обвешанные поезда. И столб
возникнет над столицей - началом Страшного Суда. А я,
по воле военкома, сгорю от близких вдалеке: не дома, ясно, что не дома,
а в госпитальном городке. И если чудом я не сгину
(не дай мне Бог таких чудес), - зола жены и пепел сына
припорошат меня с небес... Дозиметрист меня повертит, и мойщик
веник мне вручит. И чтоб спасти меня для смерти, мне смерти не дадут
врачи.
Стою растерянный, оглохший. Соседка в кухонном дыму.
И не пойму: на что мне ложка? На что мне ложка, не пойму.
1962
СТАРИК И ОФИЦИАНТКА
(О н а) Галстук потёртый. Лысина. Проседь.
Взял на пятёрку - на трёшницу просит.
Смотрит и смотрит, шумно вздыхая.
Взгляд его мокрый, а щека сухая.
Взял конфеты "Радий", четыре штуки.
Чего это ради суёт мне в руки?
(О н) Ах, девочка, девочка, вилки да блюдца.
Синие гляделочки надо мной смеются.
Губки твои полные моих не примут.
Ручки твои подлые другого обнимут.
Кабы не подагра, не сердечный клапан,
делал бы подарки, умолял бы, плакал!
А то, может, подошла бы? Эх, подошла бы?..
Ведь любили меня бабы - и какие бабы!
(О н а). Всё б вам по бабам, а годы не сбросишь.
Может, подошла бы - сам не попросишь.
Может, и попросишь - сам же и струсишь.
Может, и не струсишь - да губу прикусишь.
Нищий, а где там: трёшницы тратит...
Шёл бы ты к детям! Хватит!
1962
ОБА ЗАВЕТА
Когда кочевники и воры
однажды все-таки осели,
когда уже бродяги сеяли,
когда уже бандиты жали, -
они в командировку в горы
послали старца Моисея,
и он достал для них скрижали.
Скрижали были то, что надо.
Скрижали были от Еговы.
Любая буква пуда на два.
Любой параграф - на две тонны.
Решила вшивая команда,
по крайней мере, за основу
принять булыжные законы.
Господь, ревнивец и придира,
повелевал им жить на свете,
растить лозу и ставить сети,
а согрешив, - не слать кассаций.
Никто не сотворял кумира.
С трёх лет закон зубрили дети.
Как вдруг раздался клич: "Спасайтесь!".
Спасаться? Им? С чего бы это?
Превыше чада ставят веру.
Блюдут в торговле вес и меру.
С врагами злы. С родными кротки.
Какой-то хмырь из Назарета!
Блудницы друг, а взял манеру
читать им проповеди с лодки!
Арестовали. Обыскали.
Ведут в казенную палату
к администратору Пилату.
"Распни его!" Распять - раз плюнуть.
Вернулись - в храме пустовато...
Куда девались постулаты?
Вылазят буквы прочь из камня,
летают пухом - только дунуть!..
Глянь, отделился дух от буквы.
Отсел, насупясь, ум от сердца.
Оторвалась любовь от секса...
Но как пригнули, как прижали
неощутимые как будто,
не обратимые во средство
невоплотимые скрижали!..
1962
В МАРТЕ
Сегодня первый день весны. Колёса грязи нанесли.
Отёк под снегом рыхлым. И небо - крупным шрифтом.
Блестят провисшие мосты, поблескивают стёкла,
и кубатура пустоты
растёт вокруг настолько,
что изымаются дома и целые кварталы,
как будто прежде их зима из снега наметала.
Вот и во мне идут на слом торцы, углы и глыбы,
и в обнажившийся проём торчат перил изгибы,
утробы вспоротых квартир с их утварью несметной,
и не могу я ухватить в себе души бессмертной.
Она как будто растеклась налево и направо,
Перемежая снег и грязь, как сточная канава.
И все, снующие со мной сквозь ток автомобилей,
врасплох застигнуты весной и рты закрыть забыли...
1963