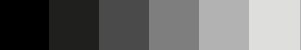Тетрадь третья
РЫНДЕКС
1963 -1967
***
Выделяй поменьше слизи.
Семени бегом по жизни,
не приклеиваясь к ней
шлейфом собственных слюней.
Будь обкатан, словно жёлудь,
будь, как пуля, твёрд и прост.
И без жалоб падай в жёлоб
и выкатывайся прочь!
Ради Бога: закатившись
в норку, в щелку, в свой домок,
только там сдирай ботинки
и сбивай с души замок.
Ради Бога! Но не думай,
что вселенская печаль,
развалясь, на блюдце дунув,
пьет с тобой вечерний чай.
Не мусоль в уме планету:
не ухватишь - не утюг.
У тебя вселенной нету.
Человечество? Тю-тю!
А уж если ты не можешь
без "идей" и громких фраз, -
всё, что смочишь и измажешь,
посмакуй - и в унитаз.
1963
***
Я здесь, в подвальном ресторане,
где свет горит уже с утра,
где некто в баках руку тянет -
тебя погладить вдоль бедра.
Где над бордовой спинкой кресла и сизым блюдом шашлыка
до бестелесности телесна, мерцает голая рука.
И бледность кожи оттеня,
глаза - отчалившие лодки -
через графин прозрачной водки
плывут отдельно от тебя.
Я здесь. Вон тот, бритоголовый,
моргнул тебе - ты подошла.
А я берусь рукой за слово, как за зеленый край стекла.
Ах, эти плоскости, и скрежет в стекольном ящике словес.
Ах, этот край, что пальцы режет,
и тяга рта - сосать порез!
За что мне это наказанье,
что красотой оглушено
(как шмель, убившись об окно)
неутолимое желанье?
А вот и миг неравновесья:
мой крик: "Я здесь! не видишь? здесь я!"
И звон разбитого стекла.
И в жестах замерли тела.
1963
***
Над площадью рос фейерверк. И тени огней пробегали
по лицам, задравшимся вверх. И сотнями веки мигали.
Опарой сползала толпа
по Плешке: густая, сырая,
цепочки томящихся пар ко входам в кафе притирая.
"Мест нет", и за трудный прорыв
рублёвками грёб гардеробщик,
чтоб сели, мгновенно забыв
о тех, кто за стёклами ропщет.
Дрожал у Манежа помост
от пляски народных ансамблей.
Толкались в дымках папирос,
ногами сучили и зябли.
Несло коньяком и драже. Локтями трудились пижоны.
И под руки пьяных мужей
тащили вспотевшие жёны.
Грудастые пары девиц, отставив сплетённые пальцы,
смешливо-надменно вились
в сухом репродукторном вальсе.
И смачно плюясь и куря,
подростки, раззявясь пошире,
дурашливым криком "Ур-р-ря!"
себя и прохожих смешили.
1963
***
Ну, давай,
ходи,
проползай,
пробегай.
Синим льдом холоди. Алым ртом пропекай.
Сквозь смешки и голоса
ресторана
делай, делай глаза, будто странно.
Мол, пожаловал гусь во свинарник.
И взяла б, да боюсь - не слинял бы.
А куда бы ты меня
подевала?
У тебя же не душа - одеяло.
У тебя же голова - вся в подушке.
Ты же вытянулась вся,
как в падучей.
Ну, беги. Ползи. До нутра пронзи.
Подставляю бока. Подставляю спину.
Захочу - как жука,
скину.
1963
***
В ресторане за соседним столиком
сумасшедший пиво пил.
Пиво пил и вопил. Щи глотал и бормотал.
Метрдотель его счел алкоголиком
и ему нотацию читал.
Я подсел. Я назвал его отцом.
И покуда мельница молола,
выяснял по ходу монолога,
что он думает о том и о сём.
"Ты меня не будешь бить?" - добродушно он спросил.
"Ты не Мымрина ли сын?" Я сказал, что да, сын.
Он сощурился, как на гадость,
и ладонью отсёк эту лесть.
"Если рындекс, - он сказал, -
поделить на мындекс,
то получим гандекс ".
Я подумал: а что, так и есть.
1963
***
Иди ты к лешему - гладить плешь ему.
К медведю-каину - чесать бока ему.
К своей малинке да калинке
катись под горку, сдирай коленки.
С тобой не выдохнешь - печёнку вывихнешь,
и мысли вязнут, как смола.
Чего уставила глаза усталые, слепучие, как купола?
Ведь караваями тебя навалено,
и улетучиться нельзя
сквозь те пробоины, сквозь те промоины,
сквозь те дырявые глаза!
1963
***
Черта ль, Бога причащался - напилился дров.
Нет ни горя, нет ни счастья: земляная дрожь.
Так осину передёнет: мелко, всем стволом,
Месяц вызнобит ведёрный в небе слюдяном.
Так и звери на рассвете: выгнутся толчком -
нет ни жизни, нет ни смерти, только шерсть торчком.
1963
***
Но если я поэт, то что ж я делаю?
Что ж я сиденье унитаза грею задом?
Ведь есть Москва - гогочущая кряква белая,
и арматура века громоздится рядом.
Да: из машин - начальнички, рыгающие, сытые.
Да: сослуживцы - недотыкомки и всяческие "недо".
Да: у поэтов рты забиты глиной и мозги трухой засыпаны.
Но скрипка все-таки пиликает и расчищает небо!
Вокруг меня столица, что-то в ней творится.
Что ж я боюсь измора от общенья с дураками?
Что ж я забился в щель из страха раствориться? -
По жизни надо бегать, бегать тараканом!
1963
***
Спал с тобой... Наоборот, не спал с тобой.
Засыпал под утро.
Простыня, завёрнутая над босой стопой.
Голова, подушка.
В этой белой простыне - разморенные во сне
ноги и живот и груди.
Я их трогаю, и мыслей вовсе нет
ни блуде, ни о чуде.
А спокойно знаю, что могу подуть
на лицо - и ты застонешь сонно.
И, как ходят по воду, пойду
в чрево, в лоно.
Я пойду - и ты ко мне пойдешь,
и иссякнут силы.
Это просто: как жара и дождь.
Как рытьё могилы.
1964
***
Полны достоинства: берет,
сама его посадка;
на локте латаный жакет, сама его заплатка;
отсчёт копечных монет
впридачу к сумме в гривнах -
за диетический обед
из манной каши и котлет,
морковных или рыбных.
Полны достоинства: вопрос
о стоимости морса,
манера так нести поднос, чтоб о жакет не тёрся;
воспитанность - вести глаза,
как шпица на цепочке,
и вилку вычурно держа, производить глоточки.
По скудной пенсии; по рту,
не знавшему помады;
белкам, сухим, как паспарту,
подглазинам помятым;
по коже, обтянувшей лоб,
торжественно-безгрешный, -
Учительница. Ну, чего б?
Словесности, конечно.
1964
***
Окружите меня, дома. Я иду пустырём по солнцу.
Архитектор сошёл с ума:
улиц нет, а коробок тьма,
словно стадо пасётся.
Не цедите меня, дома,
сквозь дремоту ресниц коровьих:
я не стану хай подымать
средь нагретых коробок.
В эти боксы, где сбита спесь
двухметровыми потолками,
простота, неуменье урвать, поспеть -
и не мне чету натолкали.
Кто-то с детства прочёл тома,
с малолетства играл на скрипке -
и вселились в эти дома. И завязана жизнь, как штрипки.
А от жизни легко отпасть. Сшелушиться чешуйкой кожи.
Никакая ты ей не часть. Никого ты ей не дороже.
Так же душен бетон квартир.
Так же пылен пустырь предместья.
Перевёртывается мир
лишь в тебе - коробки на месте.
Врытый стол во дворе. Продмаг.
Вон "козла" забивают. Гогот.
Окружите меня, дома. Возлежите на мне, дома,
пятернёю Господа Бога.
1964
***
Рыжеватые виски
поседели: соль да перец.
Шляпа - набок шутовски.
Ну, с чего бы вы распелись?
Славно жить вам, на фокстрот
перескакивая с шагу
и от собственных острот со щеки стирая влагу.
Сетку с фруктами неся. Крепко даму взяв под локоть.
Славно жить вам: даму чмокать
и чихать на всех и вся.
Оттого ли, что крупны
в сетке жёлтые бананы,
что неоновой копны
вьётся сено над домами,
что в серванте ждёт ликёр
искушенных сластолюбцев,
и сходясь вот так, легко, без трагедий расстаются?
Боже, Боже, как он прост, мир лизанья и жеванья.
Наступает, как на хвост,
на мои к нему желанья.
По извилинам Москвы
ходит Каин, неприкаян,
полустёртые мозги,
напрягая, напрягая...
1964
***
С кошками линючими в очёсах и струпьях
на мусорные кучи
прыгаю с труб я.
О как томят обоняние, страстями играют моими
гнилой томат и бананные кожурки в аквамарине!
Ржавое с вмятинами ведёрко весенним солнцем нагрето.
Как сладостно рыбьи рёбра выдергивать
из красных жиж винегрета!
Кирпичные стены, тяжелые колокольни
вращаются над головой.
На тысячи клеток расчерчен город,
и в каждой - кто-то живой.
Живут средь белья, порхающей моли,
тарелок, трухлявых книг.
И жирная кровь густа, как помои, под белой кожей у них.
Построились в колонны
и феи, и принцы, и гномы.
На каждый лист зелёный
набит инвентарный номер.
Он выбит на каждой мысли - только переверни.
Он вышит на всякой ласке - только переверни.
Он есть на изнанке мира... Перевернём?
О зелёная муха! В тихой вони плывёт и плывёт она.
Словно луки, кошачьи зрачки изогнулись на цель.
И острейшими пузырьками винная всходит блевотина.
И могучей кислою прелью всходит апрель.
1964
***
Тихо. Тихо. Тихо-тихо:
на душе и набережной.
Ты везешь, таксист, не психа
и не набожного.
К берегам выходят цехи, не стыдясь исподнего.
Непроспавшиеся церкви головы приподняли.
В белокаменных НИИ светятся плафоны...
Шеф, не злись, я впал в наив - ну, и что плохого?
Просыпается Москва, снегом вся побелена.
Ну, влетим под самосвал - думаешь, трагедия?
Ты вчера не долюбил - посчитал излишним.
Ты вчера не перепил - оттого и злишься.
Тихо. Тихо на душе
и в машине.
Трёшки хватит? Ладно, шеф. Помаши мне!
1965
***
На пограничном километре
писк раций, чаек и гагар.
Как мельница в солёном ветре,
скрипя, вращается радар.
В кайме прибоя - в чашке Петри -
наш континент: агар-агар.
Под спутником блеснул - исчез,
как лунный цирк с каймой отрогов,
массив колонии микробов.
Обычный день. Обмен веществ.
О монолит! Прибавь труда.
Плоди неслыханную расу.
Укрась узором биомассу.
Я не чиню тебе вреда.
1966
***
Проснулся рано. Рамы -
едва видны.
На мне еще горят, как раны,
неотоснившиеся сны.
Лишь миг назад
ночное продолжалось бегство:
лупила юность из засад. Крича, замахивалось детство.
Я сам свой ад.
И от себя не отвертеться.
Радиоточка с умиленьем
увещевает: "Подтянись!" -
семейным голосом елейным
в меня вселяя оптимизм.
Но это я лишь миг назад
бесчинстовал, входил в азарт
отцу и матери на горе:
то с бабой спал на их глазах,
то начинал надрез на горле.
Ну, мир, теперь усынови.
Дай сыну
похлёбки в пасть и пулю в спину -
как знак любви.
Вернуться в полк.
Китаям, Турциям, Россиям -
кому-то стать послушным сыном
теперь мой долг.
1967
***
От мокрого снега ль, от утренней зябкости,
от жидкого чая, от давки трамвая -
я чувствую злобу, и пьян от внезапности,
остатками юности заболеваю.
Старуха меня называет "студентиком",
и холод в рукав задувает привычно.
Внутри этой массы - дрожащей, студенистой -
я тросом железным натянут, привинчен.
И всё впереди: друзья, провокаторы,
и споры, и водка, дающая спеться,
бессонница, книги, табак, кровохарканье,
больница, любовница, первая пьеса.
И что бы ни вышло: судьба мне потрафит ли,
окажется ль долбаной, ширяной, краткой -
всё нагло орёт со страниц биографии
и пахнет еще типографскою краской.
1967