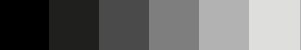 |
 |
Тетрадь четвертаяТРЕТИЙ КЛАСС***В Брюсселе открылась международная выставка. В курортном городке на Украине сидел в сквере студент-медик, вертел в пальцах листок тополя и тосковал. Студент пописывал стихи. Он оттого тосковал , что сидел в сквере в курортном городке, а в это время в Брюсселе открылась международная выставка. Там были здания таких линий, какие и сами в голову не придут, и при желании нарисовать необычное на бумагу не лягут, но когда их видишь, говоришь себе: "Вот-вот! Это и имелось в виду". На огромной ровной площади переливалась и вспыхивала приглушенная музыка, похожая на просвечивающие дольки апельсина. Она текла из опережающих друг друга репродукторов, покидала прохожих - и тут же их настигала. Каждые несколько минут площадь пересекала тень реактивного самолёта, идущего на посадку. Те, кто были в небе, уже предвкушали прерывистое дыхание музыки, храп разноцветных флагов на высоких флагштоках, элегантность случайных сгущений и проредей праздной толпы. Из длинных машин выходили мужчины с вежливыми, изнутри смеющимися глазами; с ними об руку - пахнущие холодом женщины в мехах; глаза женщин были в сговоре с глазами мужчин. Бородатые туристы в клетчатом, в сандалиях на босу ногу, оглушительно хохотали над чем-то и время от времени произносили слова вроде "пикассо" или "корбюзье"; всё вокруг было вкуса горького шоколада и грейпфрутового вкуса слов "пикассо" и "корбюзье". Еще пахло свежевымытым асфальтом, осенними платанами, очищенным до парфюмерности бензином и дорогими сигарами. Стоял двадцатый век. А он сидел в привокзальном сквере, где массивный побеленный куб постамента венчала крошечная, как в насмешку, лысая голова Ленина. Рядом с опавшими листьями поблескивали на траве плевки и высохшие презервативы. ...Вроде, завязка действия. Ведь завязка самых интересных событий начинается в чьей-то душе: например, с зависти, тоски, отвращения к маленькой лысой голове в захламленном сквере. Но приглядимся к нашему персонажу. Я слышал, признак непреклонной воли (воли - к чему? к тому, чтобы стать чиновником, которого пошлют с делегацией в Брюссель?) - это тяжелый подбородок; у нас он скорее скошенный. О человеке немало говорит и его затылок. Он должен быть выпуклым и на крепкой шее, обещающей к зрелости жесткую поперечную складку. У нас шея была с мальчишеским желобком сзади, с косицами неостриженных волос. Волосами же восполнялась и недостаточная чашистость затылка... Обернись, сочинитель стихов, я из будущего окликаю тебя. Вот твои жалкие глаза, и в них - сквозь жёлтую листву платанов - ребристая, выкрученная, разлапистая европейская штуковина из стекла и металла, то ли здание, то ли скульптура. Скажи, случится ли в твоей жизни что-нибудь более значительное, чем это видение праздничного Брюсселя?.. Дайте занавес. 1964
ЛЕНА
Около жизни твоей,
в тени ее листьев
мне хорошо.
Около линии бёдер,
возле улыбки одними губами,
вблизи дыхания.
Будь разумной и глупой.
Наклоняйся. Разгибайся.
Говори. Отмалчивайся.
Ритм и рисунок.
Полные медленные глотки.
Жизнь.
1964
***
Какая это низость -
зависеть от везения:
случайного каприза
общественного мнения;
на чистку брюк потратясь, ходить в дома к писателям -
мол, ежели потрафишь, - заметят, обязательно!
зависеть от редакции
и от того, удастся ли,
чтоб слово там замолвил Светлов или Самойлов!
Но если т а к великими
становятся - из низости,
и слава нам велит её вынюхивать поблизости,
и дело не в призвании - оно теперь нередко, -
а в том лишь упование, что вертится рулетка, -
позвольте с благодарностью отвергнуть ваши "браво",
позвольте быть бездарностью на фоне вашей славы,
позвольте - в обыватели, какие повсеместно,
в кормильцы-обуватели детишек и семейства,
позвольте - ставку вытяну, входить не стану в долю.
Для вас непозволительно, а я себе позволю.
1964
ПСАЛОМ
1.
На финской выставке я видел
снимок современной церкви:
одноэтажный длинный дом с плоской крышей,
отогнутый бетонный уголок - вместо купола,
разбросанные щели, вместо окон,
и колокольня: вроде голубятни
на каменном шесте.
Над этим всем - кресты.
Уходит небо в Средние века.
Кресты голы и строги.
Но мы не слышим звона шпаги.
Кресты без куполов. Кладбище. Склеп.
Скрещение осей
на линзе пулеметного прицела.
Сюда молиться мы придём.
2.
Внутри:
ветвящиеся своды
(ушная раковина в переборках;
к ней присосались, как попало,
клещи-плафоны),
а по стене, подобно туче, расползается орган,
повертывая тающую голову
со скорбным удивлением. Итак:
Здесь на священниках крахмальные халаты.
Колокола
включаются через рубильник. Хор
стреляет жесткими пучками диссонансов,
как облученный, а в дверях -
бритоголовый старец
с прожилками в тяжелых веках.
Он грустно поднимает брови, не говоря ни да ни нет,
и грохоча протезом по бетону, принимает
плащи и шляпы.
3.
Сюда молиться мы придем:
- О Боже, позволяющий двум параллельным
пересекаться!
Позволь исправить Тебе молитву вверх ногами.
Сыграй нам что-нибудь весёленькое, чтоб орган
кивал, как лошадь, вывихнутой головой.
Задрай нам ход наружу!
Там все кривые -
окружности. Там горизонт
петлей примерен к шее.
Стекольщик ада
нам выдул Землю круглую
и Солнце круглое.
Спираль Галактики. Спираль белка.
Танцмейстер ада, он обводит душу
вокруг себя самой, себя самой,
и в точке возвращения, повтора
впрыскивает в нас блаженство. О, блаженство!
От исступленья падают с подмостков дирижеры,
о братстве хоры сводные поют.
Плывут венки на братские могилы.
Зубная паста и презервативы
в аптеках продаются за гроши.
Писатели трудами сотрясают глубины человеческой души.
Ракеты нас вышвыривают в космос,
отталкиваясь пальцем от земли. Микробы дохнут.
Бандиты запираются в тюрьму.
Грядущее, Прогресс, Культура, - щёлк! -
и мы заделаны в блестящий обод,
чтоб сами скатывались в ад.
О Боже всеблагой, прими нас в лоно
неверия!
4.
Ты видишь - дьявол снова
гонит по захламленному шару
тучные стада округлых истин.
(Симметрия - всего лишь средство плоти
удерживаться. То есть - жить).
Всё ближе топот; пыль шатром
встаёт над горизонтом,
и поднимаются со всех сторон
оранжевые баобабы,
увитые прелюдиями Баха;
и гуси-лебеди, сведя за спины крылья,
одолевают милю за секунду;
и рыба варится в озёрах... Господи!
Помилуй и укрой.
Он поднимается, скрипя протезом.
Глаза отводит. Гремит ключами.
И всякому распахивает
щель.
Подвал. Блиндаж.
Подземный рай.
1964
ГАГРА
Е.И.
Социви, пити, харчо.
От слов зубам горячо.
Шашлык, каурма, бастурма.
Урчишь, а во рту слюна.
Самшит, эвкалипт, кипарис...
Шампанское, пузырись!
Запомню, покуда жив:
зелень, жара, залив,
пляж, душ, загар,
синь, рябь колоннад,
томатно-красный закат,
в рассоле - солнца томат.
Запомню ночи агат,
уханье волн в ногах,
бухту, луну над ней,
дрожь цикад и огней,
твоих колен холодок,
жар твоих губ, щёк,
влагалища - и покой,
словно бы горший свой
грех - уже отгрешил.
И отлегло от души.
Всего и осталось впредь -
пожить, потом помереть.
Бутылку вина в постель
взять на сугрев костей.
Под джазовый чёс дождя,
пока ты дышишь в плечо,
курить во тьме и не ждать,
что будет что-то ещё.
1964
ТРЕТИЙ КЛАСС
Есть первый класс поэзии в стихах: как первый класс транзита на судах - с каютами в металле и пластмассе. Но я и в жизни еду в третьем классе, где яростно, как тигель чугуна, чадит в окне татарская луна, и лунный брус расколыхали волны, и тянет глиной ветер нижней Волги. Где в темноте на теле у жены - две полосы молочной белизны, два острова, спасенных от загара. Где вишни с астраханского базара, квинтетом флейт звучащие во рту, нам скрашивают ночи духоту. А коридор мешочниками полон. За дверью мальчик спит в обнимку с полом (мать мальчика глазами так и ест меня, владельца двух каютных мест). Уборная: вонь хлорки, комья грязи. Забитых труб клокочущий позыв. Цыганки моют ноги в унитазе. Уборщица, за этим их накрыв, ИКС Жил-был Икс... Да чего темнить: это я. Он (в смысле я) с детства был виновен. А именно. Появился на свет, где без него миллиарды ртов. Вскармливался молоком (сухим, из посылок), в то время как в Индии умирали от голода, и даже ближе: в Днепропетровске, рядом. Учился играть на скрипке, в то время как в этом возрасте уже принимали взвод. Эвакуировался с мамашей в глубокий тыл, и оба радовались, что эшелон не разбомбило, а между тем горела Хатынь. Хватал пятёрки в школе, не в ремеслухе, и попадая вместо гвоздя по пальцам, считал, что может стать образованным и командовать необразованными. Икс, то есть я, был трусоват и с детства боялся. А именно. Огорчить маму и папу тройками. Огорчить соседей начитанностью. Огорчить женщину тем, что она ему надоела. Огорчить стихи тем, что они без рифмы. Огорчить трудящихся глубоко запрятанной склонностью к тунеядству. Огорчить себя самого тем, что он не такой, как надо. Поэтому он про себя гордился, что плохо одет, мало получает, употребляет в речи "значит", "понимаешь" и матерное. Но при этом писал стихи, чтобы нравиться и прославиться: воображал, что в его стихах найдётся такое, чего еще нет в великой русской литературе! С детства он понимал, что следует всем говорить спасибо. А именно. Каменщику - за то, что живёшь в здании, а не в землянке. Жестянщику - за то, что ешь ложкой. Колхознику - за то, что ешь вообще. Рабочему классу - за то, что общество справедливое. Рабоче-крестьянской армии - за то, что живёшь вообще. Он по-детски обиделся, когда его никуда не позвали и нечего не позволили. А когда впервые вытащил голову из виноватых плеч и проблеял "Я", не понизив голоса, оказалось, это не так уж обидно для слушающих. Многие ничего не имеют против, им безразлично, ч т о в этом "Я" - пустота или ядрышко. 1964 ***
"Сегодня Рихтер, в программе Прокофьев, Бах". Одни имена
СЕРДИТЫЕ МАЛЬЧИКИ
Сердитые мальчики, сказать по секрету? - Мир,
когда он, наваливаясь на борт галёрки,
вопит вам "Да!" и "Вот именно!" - на поверку
снимает вас горячей кастрюлей с плиты
и тащит на стол, за которым недавно позавтракал
крылышком Моцарта.
Вашу пощёчину он раскрывает, как створки раковины,
звонко высасывая оттуда устрицу. Ваши проклятия
смакует, как виноград, и выплёвывает
косточки, опасаясь аппендицита
(хотя через час погибнет от ядерной бомбы).
Вы ему впрыснули рак с чумой, а он:
"Спасибо за вакцинацию!"
Рядом с самоубийцей он ладит петлю
И для себя: как закадычный друг,
и вышибая из-под вас табуретку,
плачет, что потерял единственного человека,
который мог бы ему оказать
эту же милость.
Сердитые мальчики, не полагайте себя обманутыми,
когда из вас выжимают пикантный сок
(вы-то думали - щёлочь),
а самих - в помойку.
Стоит ли обижаться на камень за то, что твёрд,
на воду за то, что льётся,
на мир за то, что живёт,
в то время как нам не живётся.
Поставщики тоски - в сущности, пошляки.
Так я думаю, мальчики. Рвите меня на куски.
1965
РАССВЕТЫ
О чем вы, рассветы? О чем вы нам шепчете
сквозь зубы нечищенные, кивая на чепчики
старушек в подглазинах? - Сквозь первое карканье
вороны из парка? - И первое шарканье
лопаты по снегу? - Сквозь темень, что смахивает
на кожицу сливы над тусклою мякотью?
Рассветы, какому Указу поддакиваете
сугробами с крыш, сквозняками под арками,
шажками по наледи, сбивчиво-скорыми,
и ранними сборами в окнах за шторами?
Ни добрых, ни злобных, ни чистых, ни меченых -
все только проснулись, и картами смешаны
их судьбы с подвохами, мысли с вопросами,
и книзу мастями те карты побросаны.
Все планы и цели всплывают и падают,
белея во мгле снеговыми лопатами,
качаясь пока на весах неотлаженных;
все истины жизни похожи на ряженых.
Пока еще город во мгле расплывается,
какой-то подсолнух над ним раскрывается
и греет на холоде нотой басовою,
как радиорупор сквозь оторопь сонную.
Вот-вот мечевидная стрелка подвинется,
и мир, как ушат, нам на головы выльется;
вот-вот оглушат самосвалы прохожего,
покроются стёкла гусиною кожею,
взгрохочет метро, переполнятся станции -
и картам постылые масти достанутся.
Рассветы, размётки, манёвры неясные!
Зачем, как детей, что ревут перед яслями,
вы тащите нас, истомив недомолвками,
к судьбе, что нависла железом дамокловым?
1965
***
Странно, что из книг знаменитых писателей
я не узнал о жизни самое достоверное,
абсолютно понятное нашему дворнику или молочнице Неле.
Например, что женщины - те же мужчины,
только с другим строением тела.
Или что люди любят поесть, приодеться, повеселиться
просто так, а не ради чего-то и не в силу испорченности.
Или что некто, дающий вам деньги, - творит вам добро
и уж точно, стоит почтения и благодарности.
Или что женщине требуется надежный партнер в постели;
хороший ли он человек - дело другое.
Или что сильный вправе (и должен!) командовать слабыми,
а если он задурит - ну, что ж, сила есть сила.
Что-то в этом роде я, конечно, читал.
Но это всегда подавалось с нажимом
или хватанием за голову.
А молочница Неля (25 лет) не хватается за голову.
Я перед ней, как школьник, и если сказать ей "дай" -
она откажет: не потому что противен и предлагаю плохое,
а потому, что это делается невежливо,
словно её принимают за потаскуху.
1965
ДВА НАСТАВЛЕНИЯ
На земле миллиарды людей. И до сотни командных позиций.
Четверть века ты молод: успей
за ступеньку повыше сразиться.
Ты ведь тоже не с самого дна
атакуешь удачу - гляди же:
если падать, так падать не ниже
той ступеньки, где билась родня.
Суета!.. Но не мы виноваты. И конечно, позволить нельзя,
- чтоб тобою вертели магнаты,
как отцами вертели князья.
И не слать же детей на убой
ради тех, кто тобой торговали,
ради тех, кто при встрече едва ли
снизойдут до беседы с тобой!
............
Неладно что-то в Датском королевстве.
Да не будет ладно никогда.
Что остаётся? - Зелень перелеска,
вино, любовь, беседа и еда.
А надо чуда, подвига и блеска...
В бой, юноша! Попробуй. Но когда
устанешь, - вспомни: зелень перелеска,
вино, любовь, беседа и еда.
1966
***
А.Т.
Все ниц пред Вами! И всё - замри!
Иван Иваныч. Вы пуп земли.
Не доливайте, я не хочу.
Иван Иваныч, я не шучу.
Не верьте слишком
тому, кто трезв:
"Ну, - хмыкнет, - шишка...
Дыхнуть - исчез..."
Под этим вот что: он раб молвы.
Он знает точно, что пуп - не Вы.
Примите вызов. Скажите: "Сгинь!
На телевизор сменяй мозги!
Ни властолюбцу,
ни королю
честь первопупства
не уступлю!"
Ей-ей, вы правы. Возьмем конфликт:
Пекин с Оттавой. И русский влип.
Всех перебили. Всё сожжено.
Во всём-то мире - лишь вы с женой.
И будет крыша. И тот же суп.
И та же каша. И правый суд.
И самогонка - такая ж в точь.
И два ребёнка - сынок и дочь.
Все властолюбцы, все короли
от В а с начнутся. Вы - пуп земли!
1966
БЕЗ НАЗВАНИЯ
Они на лестнице, на лестнице стояли.
Один был шапке меховой,
другой с открытой головой
(мне только надо вычерпать словами
свой омут, омут свой).
Один был в шапке меховой, другой с открытой головой,
и ждали третьего, на лестнице стояли,
и вечером собраться в ресторане
имели уговор между собой.
А я за щеткой - натереть полы -
за щеткой шел: тереть полы в квартире,
которую они мне отхватили,
ко мне расположения полны.
Они осклабились, уставясь на меня,
чтоб дал понять, что я им благодарен,
что я им свой, что подходящий парень,
а прочее - херня.
И я сказал, изобразив, что рад:
Здорово, мужики!" -
......................
......................
1966
НА ЕНИСЕЕ
1.
Вот он я: на Енисее, у хозяина Расеи
Юнусея-батюшки.
У Тунгуски-сватьюшки.
Краснояры сердцем яры. Охмурила их тайга.
В Красноярске по-татарски
косо смотрят берега.
Но к Подкаменной Тунгуске
Енисей меняет тон:
нос-то плюский, глаз-то узкий,
сам-то - русский: что твой Дон!
Как обнимет - сердце вон.
Распахнёт он полушубок, да и бросит по пути.
Где там шуток - полушуток с ним, с медведем, не шути.
Он Игарку, как цыгарку, держит краешком губы.
Он Дудинку, словно льдинку, с бороды стряхнуть забыл.
Словно тем и раззадорен,
что под почвой мерзлота,
зацеловывает море в ледовитые уста!
Ах, ты гад, река чужая! Пью с братвой четыре дня.
- Я тя, батя, уважаю. Уважаешь ты меня?
(Ну-ка, скалы: "Га! Га! Га!", ну-ка, плёс, белей от злости.
По сопатке, сопки, гостя! По шеям его, тайга!) -
Енисей не отвечает. Среди нас не замечает
он ни друга, ни врага.
Если бы знать язык Сибири и, усевшись на Таймыре,
гаркнуть, словно в мегафон,
взрывом в сотню мегатонн, -
вот тогда заметит он.
И прорявкает, зевая
аж до самых облаков:
"Че-ло-век?.. Не понимаю. Кто таков?"
Вишь, лежит на берегу, о спасении взывая,
самоходка грузовая, загулявшая в тайгу.
В половодье забрела. Ночью схлынуло с-под днища.
И корявая тайжища судно в лапы приняла!
Вольно ходит Енисей выше кранов и посёлков,
пихтачей и кедрачей,
человечьих дел и толков.
Как погонит он шугу - шуганёт весною льдами -
гром стоит над городами, потонувшими в снегу
Гонит лёд суда, как скот, и без толку их до устья
провожает вертолёт с бесполезной бабьей грустью.
Ну, а где же, Енисей,
купола твоих церквей? -
На твоём загривке только
костыли высоковольтки,
избы, вышки лагерей...
2.
"Я из Норильска. Здесь живу.
Не в городе... Не ясно?
Точней - во сне не назову.
Нельзя. Почтовый ящик.
Ну вот. Сегодня взял отгул.
Само собой, поддали.
Чего-то вертится в мозгу...
обида ли? хвальба ли?
Живём. Полярные идут.
Отличная квартира.
Четыре месяца в году
один фонарь - светило.
Четыре месяца - не век.
И отпуска в Пицунде.
И я по матери эвенк,
отсюда и танцуйте.
Кто думает, что он умней,
того б сюда: попробуй.
У заполярных лагерей
режим и быт особый.
Вид исключительный: снега.
Уют в каменоломнях.
Интеллигентная среда:
шпион да уголовник.
Я, между прочим, книгочей,
мне ум - всего превыше.
И всех считать за сволочей
не заимел привычки.
Бывает, просто за язык,
за хмель и дурь в отместку.
Бывает, не сообразит,
что к месту, что не к месту.
Но большей частью - мутный люд.
Не психопат - подонок.
А выкобениваться тут
старается, как дома.
Что хочет? Выставить себя,
из общей массы вычесть.
А рубит чистые слова:
"свобода", "право", "личность".
Я рос в тайге. Соображай,
куда идёшь, как выйдешь.
Медведя, волка уважай -
не то своих не взвидишь.
Вот так и тут: простой закон.
Работай, где поставлен.
Блажишь? - Работай под замком.
И это понял Сталин.
А жизнь, она повсюду жизнь.
Чего галдеть без толку?
Больной - лечись. Кортит - женись.
Не в духе - выпей стопку.
А если в чем-нибудь мастак
и ум такой громадный,
сначала вылезь в комсостав,
а уж потом командуй!"
1967
***
На великой Руси юбилей октября.
Колокольни гудят, полыхает заря.
От Камчатки до Риги горят кумачи -
как щека от удара татарской камчи.
Ослепительный крест, вознесённый шестом.
Пролетарское знамя гудит под крестом.
Колокольно гудит алкоголь в головах.
Просыпается Бог в оловянных глазах.
Скачут шалые кони, тачанки строчат.
Ох, и взвизгнули шашки - что стайки девчат!
Иглы-пули снуют - как тогда, как всегда,
кумачовым крестом расшивают снега.
Сам Ульянов, на кепку сменяв котелок,
возле паперти бьётся, крича, как пророк.
...Голубеет рассвет. Занимается грусть.
За калитку идёт голубиная Русь.
В магазин потянулась - бутылки сдавать.
Потекла на заводы - на вахту вставать.
Заострились носы орбитальных ракет.
Пискнул спутник, какого не видывал свет.
Циклопических строек завыли гудки.
Континенты Россия берёт за грудки.
Не со злости берёт - ради правды берёт.
Чтобы шли они с ней к коммунизму вперёд.
1967
РАЗМЫШЛЕНИЯ У ТЕАТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ
Фреду Солянову
Во внутреннем дворе
музея, на жаре
кривлюсь от сигареты.
Вокруг музейный хлам: разбитые макеты, бумага, ткань, багеты,
покинувшие храм.
В глазах еще альбомы, костюмы и портреты,
увиденные там. Волшебная коробка.
О музыка, о громы
оваций, и платок,
надушенный, и голос, актрисою несомый, как лопнувшая стопка,
в которой кипяток! Вдруг "ах" - и раскололась...
Прошел по залу ток...
Сюда тащили рухлядь, скопившуюся в сердце:
уют, пропахший кухней, и крестный мах трехперстый.
Несли, как скарб и утварь, семью и "с добрым утром",
царя и благочестье, лабаз и департамент,
чтоб рухнуть с этим вместе, с разинутыми ртами!
Почетные медали - отцовства, кумовства,
супружества - меняли
на громкие слова. И покидали ложи в роскошнейшей душе:
из воска, ваты, кожи, фольги, папье-маше...
Потом, из подражанья предмету обожанья, -
свой облик натуральный, свой хлеб, свой будний день
носили театрально: немного набекрень...
Еще смотрели верх, взыскуя одобренья.
И на чело и век делился человек.
Он был "венец творенья".
Прекрасное - прекрасно, когда дано пространство
для жеста, для прыжка, восторгов и наитий.
А наша жизнь узка, как нары общежитий.
Нас много. А набьётся и больше в десять раз.
И между нами сходство нам видится как скотство,
а не сближает нас.
А если позарез понадобилось чудо -
изволь: телекинез. Сдвигается посуда.
Но вера-то ушла. Всё байки да ужимки.
Известно, что душа не сдвинет и пушинки.
Не более чем прихоть - душа: с детьми попрыгать,
к любви склонить кого. Но только и всего.
Прости-прощай, площадка
строительства души -
картонный и дощатый ларец кулис и ширм.
Прости-прощай, театр, питательный, как пудинг.
Недоставать нам будет волнующих тирад.
Смещения не вправить. Переходи на крик.
Учись ломать язык
И ставить нас втупик.
Зато во фрунт не ставить.
1967
ЛЮБИТЬ. ПИСАТЬ
Любить. Писать. Из недокурков твёрдых
выкрашивать остатки табака,
когда рассвет, когда гудит строка,
как шалая труба водопровода,
и что ни есть, присутствием стихов
окрашено без всякого усилья,
и на душу ложатся блики слов
витражной бронзой, пурпуром и синью;
когда оконной рамы переплёт
глядится мачтой, в гавани торчащей,
когда душа сама себя из чашки,
зажмурившись, постанывая, пьёт.
Любить.
Писать.
Ноябрь, и снег, и грусть,
и губы, что меня зацеловали, -
на точку между этими словами
придутся пусть.
1967
ЛЕДЕНЯЩИЙ СЕНТЯБРЬ
Леденящий сентябрь после жаркого августа.
Лето сломлено. Солнце встаёт на колени.
И при свете фонарном особенно тягостно
наблюдать густолистые летние тени.
Это осень со всеми её атрибутами.
Это свитер, и куртка, и шарф. Но извольте:
так плотны, так насыщены тени, как будто бы
поразбрызгали воду на сером асфальте.
Скоро листьями будут усыпаны лестницы,
скоро серым и пепельным небо оклеют.
А деревья застало во всей их телесности,
и деревья не просто умрут - околеют.
Я иду через сквер и стараюсь, чтоб тень моя
задержалась подольше на лиственных душах.
Эти души не знают о близости тления
и ребячась, рябят под ногами идущих.
1968
КАТАНИЕ НА ПЕГАСЕ
Стой, кляча. Дай, взберусь в седло.
Сегодня жарко рассвело.
Дышалось росами, а зданья
стояли в дымке, словно в бане.
Пруд ослеплял. Как и асфальт.
Витал над парком детский альт.
Деревья отпустили тени
прогуливаться на траве.
Перемешались в голове
похмелье, счастье и смятенье.
Похмелье , сча... И ко всему -
её увидел. Плохо дело.
Глаза, как утро. Загорела.
Наверно, где-нибудь в Крыму.
За вырез платья кинул взгляд
( сказал - не буду...значит, буду?..)
и словно в зной схватил простуду.
И сам себе не рад. И рад.
Пишу, ошеломлен жарой,
свободным днём, июлем ранним
и бестолковым пониманьем,
что я живой, живой, живой!
1968
***
...И вот я вижу,
как женщины сливаются в одну:
как одинаково мою ладонь ко рту
прикладывают. Как умело
целуют недозволенное, как
"люблю тебя", сияя, произносят.
И я догадываюсь, что в одно
с мужчинами сливаюсь. Даже
не в том, как исполняю ритуал
соития, а в том другом , попутном,
что так люблю и что "своим" считал.
Марионетки, ах, марионетки.
Пора бы вычесть из меня мужчину
и женщину - из женщины. Остаток -
и есть реальность нашего союза
(а может, схватки? с детским ожиданьем
найти - себя и полюбить - себя?
Не будем о любви, подруга. Лучше
друг другом в одиночку насладимся,
а если даст Природа, Бог ли, Случай -
друг друга хоть на сутки пожалеем,
хотя бы на ночь оградим
от алчности, зовущейся "любовью".
1968
ОДА КОНТРРАЗВЕДЧИКУ
Однокашник встретил тебя с женщиной в Лондоне
в форме морского офицера Британии.
В сотую секунды глазами холодными
ты остановил его восклицание.
И прошёл, подрагивая крепкими икрами
(мы-то их запомнили в гетрах футбольных),
навсегда захваченный главными играми:
Противостоянием и Судьбою.
Светолюбивая мошкара, гибнущая в экстазе!
Подлинность жизни есть маскарад,
смерть есть порыв некстати.
Каждая маска поверх лица - снятие слоя мути
с нашего внутреннего лица, с истинной нашей сути.
Рыцари с мечами, кавалеры со шпагами,
неженки, под мышкой носившие лиру!
Слабый, но предательский запах падали
выдал вас шутами созревшему миру.
Рифмы пересчитаны, мифы развенчаны,
правы те, кто правы, и те, кто неправы.
Неразоблаченными ходят - разведчики,
пропустив красавчиков к нам на экраны.
Действовать, как удастся! Живы мы тем, что лживы.
Вечный хребет государства вставлен в наши извивы.
Трепет оргазма, риска озноб - всё познаёт разведка,
но ни на шаг - от косных основ
жесткой морали века!
Что такое слава, награды, режимы,
что такое слухи, шумиха, протесты,
что такое травля, конфликты, нажимы -
лишь тебе известно: ты вырос из детства.
Кормчий и актёр, диверсант и мыслитель,
жрец и провокатор, чиновник и демон, -
в этой топи стонов, жранья и соитий
требовалось дело - и ты его сделал.
1968
***
Что я знал о Кустодиеве? - Купчихи, трактирщики, половые, ямщики. Масленицы, ярмарки, церкви, уездные города. Русь. Жёлто-голубой снег. Малиново-зелёное небо. Что до купчих - я думал: насмешник. Будто всерьёз любуется. Толщиной телес, кожей розового фарфора, влажными от сытости глазами. Каждой складкой богатой одежды, каждым дорогим предметом, кушаньем... А сквозь любование - разящая ирония умника. На выставке, гладя на его автопортреты, я снова было решил: насмешник. Самодовольно поднят подбородок. Мягкостью рта, лица утверждается благополучие; к этому бы теперь глаза, полные задушевной думы. Но они, наоборот, острые, прямо отчаянные! Озорник! Но я додумался: насмешка - не первое его побуждение взяться за кисть. Первое - томление по этой розовомясой и парчево-бисерной пышности. Томление и восторг. А уж дальше - издевка над обожаемой натурой, а стало быть, над самим собой. Неодолимая детскость: хотелось пряника - рисовал пряник, хотелось порумяней - рисовал порумяней под конец же одолевала язвительность, и пряник доводился до той приторной картинности, когда понятно, что он - игрушка, а не символ, соблазн, а не истина, идол, а не Божество. Такая была версия. И начинал-то он, оказывается, в духе времени: его ранние изображения натурщиц - шедевры; плоть овеяна вздохом художника, и это вздох не похоти, а тяги к живому, сильному, юному. С загадкой, по-серовски. Выходит, он пришел к себе, последующему. К сразу узнаваемому. Неужели для того и пришел, чтобы сразу узнавали? ... Серия "Красавицы"... Ну и телеса, поперечные размеры больше продольных; жирная, распаренная плоть; недвусмысленная поза призыва; постель с розовым атласным одеялом; обои с розами. У одной из красавиц откровенная похоть в лице, заведенные свиные глазки; другая смотрит слащаво-нежно, губки бантиком... Ясно: это купеческий женской привлекательности. Может, художник преображается в вожделеющего купца, чтобы потом посмеяться над его идеалами? Но вот его купчихи... Роскошь тела, стола, наряда. Купец ты или нет - вкусно смотреть и вкусно, должно быть, писать такую кралю. В глазах ее безмятежное животное довольство: комфортом, сытостью, силой. Не без оттенка грусти, но и грусть понятная. Где ж, дескать, тот сокол ясный, который такого плотского изобилия достоин был бы? И уверенность: ничего лучшего не придумать в жизни, чем зажиточность, власть и могучее здоровье, вянущее от собственного избытка. Какие там ещё поиски истины? Она, купчиха, и так совершенна, это дано ей от Бога, Он покровительствует её дому. Вот тут настигло меня подозрение: а что если Кустодиев разделяет ее самодовольство? И "красавиц" назвал "красавицами" не для смеха, а от души - крестящей рукой благословляя дебелую свою Русь? Гляжу на портрет, писанный им со своего сына. "Милому сыну Кириллу". Милый Кирилл смотрит этаким молодым хряком в роскошном халате. Голубые, пустые, беспощадные глаза. Изначальное чувство богоданной правоты. Он сыт и ухожен, он барин, он у себя на Руси - ему ли казнить себя? Копаться в себе? Это удел тощих, нездоровых, нерусских. Вот "Русская Венера" в бане, с берёзовым веником. Огромна, медвежьей мощи. И лицо вовсе не свиное. И не похоть в нём, а просто блаженство и уверенность: "Какая я ни есть, по-вашему, я-то выживу, а вы - как знаете". Так что же в глазах Кустодиева на автопортретах? Насмешка над зрителем? Ирония над привлекающим его самого плебейством? Или вызов всем тем, кого покоробит от этой Руси? 1969 Я ПОНЯЛ Я понял, что я существую в российской словесности. Не первым из средних - одним из последних - но я существую. Какая удача, что можно оставить в безвестности бессильные пробы, и зависть, и робость пустую! В ту пору известность была государственной платою таланту за легкость паренья вдали от беды поколенья. Я кутаю шею, парить не умею и славу не сватаю, пером не владею, а плакать - не надо уменья. Но дело не в цепкости, дело не в честности или нечестности: я чувствую певчей гортанью, и плотностью слова, и кожей, что всё-таки я существую в российской словесности, и это нельзя изменить, меня и стихи уничтожив. 1968 |
 |
| на первую страницу | к списку книг |