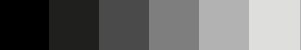Тетрадь девятая
РОД ВОЗВРАЩЕНЬЯ
1988 - 1996
В ГОСТЯХ
1.
Беру орешки горстью. Сналёту всё и съем.
Ну вот, я прибыл в гости, а можно насовсем.
Хочу я стать весёлым среди родных имён.
Здорово, братец Шолом. Здорово, брат Амнон.
За стол со всеми рядом, законная родня,
не искушая взглядом, сажали вы меня.
Не бросили упрёка за то, какой я есть,
за то, что был далёко, пока вы были здесь.
За то, что кровь не пролил, за то, что дом не строил
и сад не насадил, - никто не осудил.
И я себе не стану выискивать статью.
А выпьем по стакану - и песню запою.
Израиль, Меир, Сарра! Отличный вечерок.
Киббуцная гитара. Московский говорок.
Сестра моя, Хадасса, подхватывай куплет.
О чем не догадаться, того, считай, и нет.
А стиснет незадача - ни с кем не говоря,
перед Стеною Плача поплачу втихаря.
2.
Дочери-москвичке
Кто верит в Христа, кто не верит,
ни к тем я, ни к тем не пристал.
Однако я видел Кинерет -
овальное море Христа.
То море, чьё имя "Кинерет"
Его изрекали уста.
Я шел побережьем, как залом,
и в воду ладонь опускал,
и в сердце раздался овалом
еврейский Священный Байкал.
Вот здесь, - я подумал, - стоял Он,
когда рыбаков окликал.
Наивное око пустыни,
сокровище почвы скупой,
овал очистительной сини,
несметных племён водопой -
Кинерет. Кинор - это арфа
на главном из всех языков:
на том языке патриархов,
который и мой и Христов.
Поверь я - и арфы дождями
прольются на эти края,
и вспомнят и глина, и камень
приметы Его бытия:
и ранний пророческий гений,
и пыл состраданья к нужде,
и щедрость Его исцелений,
и радость шагов по воде,
и юную статность походки,
и лёгкость Его нищеты,
и речи - не с башни, а с лодки:
с лазури, волны, чистоты.
Но верить нельзя по охоте!
И всё же я слился на миг
с родным по душе и по плоти,
Кто звал полюбить неродных.
И к озеру с этого мига
прильнули незримой толпой
все души, все местности мира,
на вечный сойдясь водопой.
3.
Одетый в музыку Танах
звучит на нескольких волнах.
Горластый кантор-фаворит,
самозабвенно и капризно
ликует, хнычет - и творит
густой сироп иудаизма.
Ему ли Бог не подсказал,
что речь о жизни и о смерти
чужда руладам а-ля Верди
и нарциссическим слезам!
Не знаю, кто Он, Иисус,
для нас ли жил, за нас ли умер.
Но верую в Господень вкус
и сверх того - в Господень юмор.
Стою и головой верчу
в невидимом эфирном хоре.
Меня мутит. Не сладко горе.
Не патоки - воды хочу.
1988
ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МЕСЯЦ
Перевёрнутый месяц ночей аравийских:
вверх рогами, клянусь! Буйволиная стать.
Я хочу научиться - в ермолке раввинской
далеко на молу, вне огней тель-авивских,
припадая к бутылке шотландского виски, -
словно буквы небес, эти звёзды читать.
А потом возвращаться. И видеть кипение
этой полу-Италии, полу-Армении,
или так: полу-Дании, полу-Йордании
с полумесяцем в первом (небесном) издании.
Я, пожалуй, впервые влюблён в нечужое.
Поддаюсь, поддаюсь атавизму родства!
Будь здорова, Москва. Это род воровства -
хорониться в твоём волго-вятском узоре,
точно мышь полевая во всходах овса.
Будь здоров, Тель-Авив. Ты кипишь. Се ля ви.
Это род возвращенья. И вспышка любви
к опровергнутой крови.
Как мне внове считать, что повсюду свои! -
мне, кто дружеству ставил так много условий.
В этом гаме я слышу надрывный мотив:
рвань местечек и важные лица предместий,
огнестрельные раны стыдливо прикрыв,
восстают изо рвов и стекаются вместе,
чтобы смерть оправдалась тобой, Сельавив,
чтобы заново быть - не могильными глыбами,
а фонтанами, лавками, яхтами, рыбами...
С ними вместе копавший и сдохший во рву -
без причины реву. Потому что живу.
На "Фиделио" съехался местный бомонд.
Перед входом скрипачка скрипит за монеты.
Синагоги смыкают невидимый фронт.
Сквозь динамики к мести зовут минареты.
Горожане расселись в бессчетных бистро.
В супермаркете парни и девушки в хаки,
выполняя дежурство на случай атаки, -
на полу, автомат положив на бедро, -
эскимо поглощают... Корёжит нутро
Мне шарнир поворотный. Не скрою, что трушу,
но готов из России пуститься в бега.
Потому что влюблён. И заблудшую душу
перевёрнутый месяц берет на рога.
1988
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Кончился мнимый полёт.
Не заслониться словами
от несловесных невзгод
в будущей трещине-яме.
...Вижу: сплывают слова
в край, где меня и в помине
более нет; истлевают слова
где-то в трясине.
Царство бичей и желез!
Там, невзначай избежав душегубки,
крепкие стыки словес
я принимал за поступки!
Там я на птичьих правах,
не заплатив ни полушки,
век проскользил на словах,
как на воздушной подушке.
В знойном и тесном краю,
где приготовят могилу,
только теперь сознаю
русского слова подъёмную силу.
Что мне праотчий язык,
если он в сердце некрепок
и не питает подземный родник
мысленных сцепок!
Гладко ли брюху, змея,
в рубчатой пёстрой обнове?..
Вся-то родная земля -
словореченье родное.
1988
***
Я в России вышел в люди:
ел в залесье и в заречье
на серебряной посуде
русской музыки и речи.
Полагалось жить весомо.
Прививалось чувство долга.
Нехватало чувства дома
(и сказать-то неудобно).
Нехватало силы духа
ни примкнуть, ни отщепиться.
Я в России ползал мухой
по тарелкам общепита.
Потому что чуял с детства
(да и каялся, не споря),
что слова небось и дескать
я краду, как репу с поля.
Что краду вразрез и напрочь,
как подшипники с завода,
и себя переиначить
не дает моя порода.
А ведь корчусь, а ведь морщусь,
и могу дойти до ручки,
как услышу "Срулик", "Мошка" -
неприличное по-русски.
Попрекаю одноверцев
недостатком вкуса, слуха,
поправляю с тяжким сердцем:
"мишпаха", а не "мишпуха"!
Стать бы проще, быть бы выше!
Я задачи не осилил
и в жиды исправно вышел,
как и водится в России.
1988
***
Я говорю себе: терпи. Курить охота. Спать охота.
Рубашка к телу льнёт от пота. Не к месту хочется пи-пи.
Мне надо в секцию ушу. Я вял, сутул и невынослив.
Я плохо голод выношу. Я отношу дела на после.
Я кто? - Стареющий еврей, гораздый становиться в позы.
Читатель ждёт уж рифмы "слёзы"? Вот-вот. Лови её скорей.
Я не отзывчивей трески. Сребролюбив. К друзьям завистлив.
В моих стихах так мало мысли, что срам печатать их, стишки.
Я говорю себе: терпи. Своих, чужих. Жару, простуду.
Жену-пилу, себя, зануду. Лишь весть Господню не проспи.
А весть - она и есть: "Терпи".
Я буду, Господи. Я буду.
1988
МОНОЛОГ
Отец небесный, укрепи во мне
способность ощущать мою поверхность,
мой собственный мешок из гладкой кожи,
мою тюрьму, куда Ты вхож один -
тюремщик и последний собеседник.
Ты дал мне слух, и зрение, и речь,
но я распорядился ими плохо:
я начал собеседников искать
за стенами тюрьмы - и корчил рожи,
и становился в позы, и болтал.
Я сделался подобием театра
бродячего. Я тешился, когда
другого мог порадовать. Итак,
мало что Тебя не привечал,
но Твои дела себе присвоил -
кого-то радовать. И чем? Самим собой!
Провозглашая надобность и пользу
взаимоутешения людей,
я раскрывал из внутреннюю мякоть,
потом бросал их, взрезанными, гнить.
Закон тюрьмы, мембраны, кожуры
Я разумом не схватывал. Ещё бы!
Ведь и Тебя я видел только тенью
большого дерева всеобщей мысли
на собственной стене и потолке.
Я не ищу прощения, Отец.
Меня изводит наибольшим страхом
страх одиночества. Наверно, я предам
кого угодно, если заточат
в бетонный ящик без огня и щели.
По трусости приветлив я. И добр
по слабости. По глупости умён.
И даже исповедуюсь - в театре.
Дай занавес и загони мой дух
в мой собственный мешок, в мою тюрьму!
Чтоб я взмолился о Твоём приходе.
1988
ДРУГАЯ СТРАНА
Я не плачу по нём - по тому, кто остался в России,
там, где роскошь оранжевой осени, белые юрты зимы,
там, где гроздья рябины города и деревни расшили,
а в прудах, словно лебеди, церкви
отражены.
Я не плачу по нём: ни надгробного камня над ним,
ни зарубки на память о нём - ничего. Аноним.
Миновали счастливца и пытки, и лесоповал.
Миловали счастливца стыдливые русские бабы.
Был он трусом и неженкой, был разумником - и не встревал
в столкновения бар и холопов крутые забавы.
Будто вёл его Бог, неотлучно держа за вихор,
по поверхности лака на палехской плашке-конфетке,
чтобы вывести вон - и втолкнуть на прожарку грехов
в раскалённый рехов, где снуют бородатые предки.
И поставить под зной - без смекалки и без языка,
без ребячьей гордыни и твёрдых заслуг пожилого.
Чтоб хватала рука
только то, что удержит рука.
И звучало в словах
только то, что вмещается в слово.
1988
***
...И дерево речи (выходит, родной),
как ядерный гриб вознеслось надо мной!
Вот ветви. Вот корни его - шорашим.
Мы ветви срубили, мы корни крошим!
Какой в нас талант зеленеть по весне
то липой на Рейне, то вязом на Мцне!
Вот так-то и я погружён по азы
в опёночный, хвойный, брусничный язык...
Нет в мире "чужого", согласен, Борис;
и ты, Афанасий, за хлыст не берись.
Но гляньте: вон Осип завяз, как осётр,
на крючьях армянских - и гальку сосёт...
В заоблачный русский вы шли до конца,
но дрогнули б ноздри, услышь вы хоть раз,
что камни тесать - по-еврейски кацав,
а травы срезать - по-еврейски газаз.
Вступаю в другой океан языка
по щиколотки. И такая тоска:
едва по колено себя вовлеку,
как некого станет учить языку!
1988
***
Мы узнали, что нами Европа больна.
Со славянами так же опасно, как с немцами.
Уцелевших настигнет взрывная волна
с эпицентром в Освенциме.
Так и нас понесло: кувырком да врасхлёст!
И свернувшие шею - к сожженным прибавлены.
Впрочем, взрыв оказался направленным:
Вот Земля. Вот погост.
Мы еще полежим на горячем песке -
мелюзга для гуся и свинье не товарищи, -
перекошенный рот на чужом языке
раззеваючи.
...Ну, не грусти. Поставят нагишом
на солнцепёке. Объяснят, что лишний.
Проверят мышцы, зубы, кротость нрава.
Дадут лопату. Будет хорошо.
1989
***
Ольге
Предчувствие осени. Как я хочу,
чтоб здесь - не в Кусково, в Хадере, вот именно, -
чтоб это предчувствие снова нахлынуло
и где-то внутри колыхнуло свечу.
Пойдём на веранду, где солнце в лицо,
и летнюю пыль из сознания вытрясем.
По птицам, по пальмам, по падалкам-цитрусам
поймём, что под нами пошло колесо,
что катится жизнь - под откос или нет, -
неважно: хватило бы духа и воздуха
для глупой улыбки, для детского возгласа,
для зоркого счета осенних примет.
1989
***
Россию отняли, как ногу.
Культя нет-нет, а заболит.
Стучу протезом, инвалид,
входя в родную синагогу.
В России Фёдор и Исак,
когда бывало не до шуток,
парили вместе в небесах:
на неисправных парашютах.
Те небеса звались душой -
пока, сознание сминая,
не понеслась на них чужой
земля, казалось бы, родная.
Я верить воздуху привык.
Я жил, считалось, не бесцельно.
И вдруг услышал свой же крик,
что падал от меня отдельно.
Тут я очнулся. И за мной
замок защёлкнулся дверной.
И вот на родине стою.
Родня еврею. Ровня гою.
И землю чувствую свою. -
Одной ногою.
1989
***
Прощание с отчизной Пастернака,
очищенной до символа, до знака,
где в честь Христа даёт сама природа
концерты листопада, ледохода.
Прощание с отчизной Мандельштама,
где слово столь масштабно и нежданно,
что мысль кружит водой неукротимой,
как полная река перед плотиной.
Прощание с отчизной Гумилёва,
где волком и жасмином пахнет слово.
С отчизной Фета и отчизной Блока,
где "глубоко" не то же, что "глубоко".
Я тягою к России не прельщаюсь.
Что вам с того - я сам с собой прощаюсь.
Хочу по-русски, как умею честно,
отпеть себя, покуда не исчезну.
1989
ИНОРОД
На том, как делается жизнь,
без обсуждения сошлись
румынский лавочник и сутенёр тунисский,
бакинский замначснаб и польский адвокат.
А нам, похоже, поздно отвыкать
от слов про звёзды и про путь кремнистый.
Московско-петербургский инород,
летевший первым в зал,
потом из зала -
с блистанием пенсне, цитат, острот, -
его корова языком слизала.
Вот разве шляпу вежливо стащить,
когда похабно и невинно
выглядывают вор и ростовщик
из-за спины солдата и раввина.
Курчавый лавочник меня не понимает.
На вывесках строка наоборот,
и буква "мем-софит" напоминает
воды набравший рот...
Прости нас, родственник; Земля - она твоя.
А мы - с луны. И нам еще неймётся!
Мы замолчим. Есть Бабий яр немотства:
сухим ивритом поросли края.
1990
В ГАЛИЛЕЕ
Я.Шехтеру
Библейские галилейские горы.
Аисты над гробом Деборы.
Тихо. Обрывисто. Шелестят
листья ли, перья ли аистят.
Мелочь на карте. Но здесь пространство
выстрелит, как парашют из ранца, -
и ты качаешься отрешенно
над неизвестным видом Хермона...
Собран петлями серпантин -
для показа всё новых картин.
И так же - петлями - сложены даты.
"Где ты?" обозначает: "Когда ты?"
Тёплой коркой чёрного хлебца -
хрусткий говор здешнего плебса.
Я, господа, чужак, но и вы -
всходы высаженной травы.
Недостижим, хоть на карте помечен,
колодец веры и древней речи.
И от бессилия хочется крепко
бить кулаками о землю предка.
Боль не поможет. Бог не простит.
Камешек дрогнет. Аист взлетит.
1990
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ТРИПТИХ
1.
Ни башенки, ни купола, ни фриза,
ни колоннады - стадо плоских крыш.
Ни выдумки, ни взлёта, ни каприза:
прекрасному показываем шиш.
Как веруешь, тревожный иудей?
За звон, за воздух - что даёшь, меняла?
Дома - изображения людей.
В устройстве крыш - потребность идеала.
Однажды, заколачивая грош,
отделывая вещь обдуманно и сухо,
явленье стиля как явленье духа
с неотвратимым трепетом поймёшь.
2.
Воспринимаю Баха и Россини
как запах снега, впитанный в Москве...
Для нас весь мир - окраина России;
мы в пылком, но поверхностном родстве
с любыми инородцами, включая
израильтян... Как будто их страна
случайно от Руси отделена
каким-нибудь подпунктом Туркменчая...
3.
Московский человек, осевший в Туркестане,
соскучился о сером дне,
о чае, снеге, воронье
над куполами и крестами...
Туркмен из Йемена, из Бухары бухарец,
таджик-алжирец, эфиоп-казах,
узбек-араб, читающий "Га-арец"...
Лукавое тепло, рахат-лукум в глазах!
Экзотикой Востока очарован
на аглицкий манер,
ты словно бы на службе на царёвой:
путеец, лекарь, землемер...
И никого, чтоб толком надоумил
стоять в тени, за тень благодаря,
и понимать, что жив, пока не умер, -
по милости Небесного царя.
1991
***
Ерушалаима кладбищенская строгость
и костный прах в составе плит.
Вот Божий град: ни потрясать, ни трогать
не думает. И трусить не велит.
Нигде не ощущаешь резче
отцовскую неласковость Творца,
первичность мысли,
первозданность речи,
обыденность конца.
Но я люблю прохладу горных рощ,
светящийся бугристый камень,
и древних букв естественная мощь
мне родственней церковных вертикалей.
Я сознаю, что высота бездонна.
И как на фреске голый Вакх,
мне чуть смешны Младенец и Мадонна -
с коронами на головах.
1991
СОНЕТЫ А.БОВИНУ
1.
Любезный Александр, какая радость - Бовин!
Усилится одышка в центре склок.
С Россией диалог во сне лишь полюбовен,
но оскорбленному есть чувству уголок
в харчевне, где б хозяин приволок
нам пива, и маслин, и мяса из жаровен,
и левантийских всяких там хреновин, -
чтоб шёл еврейско-русский диалог
как разговор, прервавшийся вчера,
в котором чувствуешь: политика - игра,
и нации - игра, и разница в широтах,
а не игра - такие вечера,
свой человек, большущий, как гора,
и жемчуг мысли в общих нечистотах.
2.
В посольском кабинете день-деньской.
Но ранним утром - этакое диво -
по влажному бульвару Тель-Авива
пройтись, как от Никитских до Тверской.
Нет-нет повеет нашею Москвой.
Гляди, она сместилась прихотливо
на Юг, её украсили олива,
пророков речь и ветерок морской.
А вдруг и вправду есть такой распил,
где линии судеб нерасторжимы,
хотя встают и падают режимы?
За это б я чего-нибудь распил...
Но, господин посол, державной чести школа
диктует лишь поклон в пределах протокола.
1991
АЛЕКСАНДРУ ВЕРНИКУ
...Скажи мне кто двенадцать лет назад,
что вдруг по-бусурмански трёкать стану, -
я рассмеялся б шутнику в лицо.
Ал. Верник
На балалайку (да, и без приставки "тум") -
непроизвольная настройка дум.
На флейты Питера. Гитары подворотен.
Перед лицом твоим, Ерусалим,
мы что творим? - стихами русскими сорим.
Татарской воли путь бесповоротен.
А в тех стихах ни стебель и ни ствол
не проскрипел, и персик не процвёл,
и не пробился запах флёр-д'оранжа.
На холмах Друзии ночная мгла суха!
Нет капилляров у стиха -
вобрать не то, что было раньше.
На евразийский глаз
уныл пейзаж скупой -
без маковок, лугов и пойм...
Но плотен ямб александрийский!
И чем вольней ненужный русский дар,
чем герметичнее словесные изыски,
тем крепче кость и подлинней загар.
1992
ПОСЕЛОК
Слева обрыв и справа обрыв. Посёлок -
на носу корабля. Палестинские дали.
Лезвие водовода в низине. Сполох
слайдовых облаков: солнце в ударе.
Непроизвольно задерживается выдох
от высоты. В долину и седловину
скатывается взгляд, подскакивая на глыбах,
вкрапленных в эту землю, подобно тмину.
Врозь пасутся - из опасений худших -
черепичные крыши, сбившиеся в гетто,
и грязновато-белые стены арабских кучек
с неприкровенным фаллосом минарета.
Здесь, на горе, навсегда уставшие люди
в сумерках кормят железную печь-самоделку,
слушая Грига. Михаль, Гиора и Уди
кончили ужин; каждый вымыл свою тарелку.
Нам не понять, что им судьбу надломило.
Слева обрыв, справа обрыв; неравновесье
страха и сострадательности... Помилуй,
Господи, их! Помилуй - вся моя песня.
Скоро настанет вечер предханукальный.
Странная тишина застынет в посёлке.
Склон за склоном засветится огоньками,
словно живешь меж лап новогодней ёлки...
1992
ЭЛЕГИЯ
Нашей родины формат карманный,
лик её террасный и барханный -
сообщают вертикаль уму.
Скалы, глыбы, черепки повсюду.
То Гончар небесный бил посуду,
не понравившуюся Ему.
Вот секрет особенности края:
это брошенная мастерская -
мы Ему опять не удались.
Чтобы в этом живо убедиться,
выйди в город, посмотри на лица,
вникни в излагаемую мысль.
Для того мы вышли из Египта?
Мелочно, корыстно и негибко
жизнь влачится, злобой налита.
И опять о снившемся, о мнимом,
о желанном, но неисполнимом
говорят священные места.
1992
СТИХИ ПОСЛЕ ПУТЧА В РОССИИ
Прийти к тебе гостем заморским,
чтоб тёрся о грудь, что ни шаг
не крестик, добытый притворством, -
мой древний, мой царственный знак.
Без слова обнять тебя, вместо
слащавых ли, едких гримас,
покорно-ныряющих жестов,
пугливо-бессовестных глаз.
На санках слететь по-ребячьи,
сплясать со стаканом в руке,
на Лене с братвой порыбачить,
лениво проплыть по Оке.
Винясь, что уже не с тобою,
а всё разделяю судьбу,
подумать: "Ведь я для того и..."
Но сразу - губу за губу.
Прийти к тебе гостем заморским!
Пройтись многозвонным Загорском,
где всё ещё Бог - полу-Бог
и храм еще - детский лубок.
Откладывая на завтра
покупку билета домой,
средь шумного бала внезапно
заплакать: я выкормыш твой.
Вернуться озябшим и грустным
в мой древний, мой царственный град,
где жить мне евреем на русский,
на русский, на собственный лад.
1993
БАЛЛАДА
Каждое утро я отправляюсь в Израиль
из убежища, адрес которого и под пыткой
не назову, поскольку просто не знаю.
Но это так далеко, что самому любопытно,
как и на чём добирался. Впрочем,
следуя элементарным прикидкам,
это, конечно, не выезд, а вылет: ночью,
с тайного аэродрома, где вечно вьюжит,
где я лицо от колючего снега морщу.
Вот и разглаживается лицо на южном
этом курорте; итак, - прибыл; точней, доставлен
(в командировку? в отпуск?) и здесь разбужен.
Но что ни ночь - после целого дня врастанья
в новую эту жизнь - меня под наркозом
перебрасывают назад. Что мне делать с тайной
этих бессмысленных бешеных перевозок?
Экономьте горючее, раз на меня плевать вам!
Я не хочу в Россию, не выношу морозов,
я не хочу в Израиль - лицом приватным,
более чем странным
визитёром, толкующим всё превратно,
который по уточняемым агентурным данным...
1993
***
Больше не хочется быть евреем в России,
равно как и быть евреем в Канаде.
Теперь я никто - но зато и ни в чьей команде,
не жду, чтоб гоняли, чтоб на руках носили.
Пришел, куда привела меня столбовая -
сам ли, не сам на эту дорогу вышел.
И русская речь, как жизнь, во мне убывает.
По возрасту? По предписанью свыше?
Я усыхаю, как шмель у Бунина. В окнах
больше не будет жёлтой листвы и белой метели.
И не появятся лица добрых животных -
телохранителей с колыбели.
У кого сад камней. У кого сад роз.
Еврею -
сад обугленных букв... Не сад - сибирские дебри!
Здесь тебе тропка. Вступи на неё, не медли.
Не могу. Робею.
Вот обугленные раввины
с бородами в сорок локтей длиною
волокут в чащобу, где зги не видно:
там, возможно, и прячется вход в Иное.
Упираюсь, помилуй, Боже,
хватит с меня насилий.
Уж и тем сражён, что не хочется больше
быть евреем в России.
1994
***
В Иерусалиме я думал о Праге,
в которой не был. Думал про это,
как будто скрытый кинопроектор
на стены висячие вдруг направил
мосты через Влтаву, контуры Града,
трамвая дедовского сотрясенье,
забытый запах платана, граба,
воды осенней.
В Иерусалиме я думал о Праге
как об отчизне. Сказать по правде,
мне нехватает славянской речи,
одетой в листья. Сказать вам честно -
когда находит пасмурный вечер,
хочу хрипотцы и нежности чешской
в Иерусалиме - хвойном, высоком,
с роями окон.
В Иерусалиме я думал о Праге.
Должно быть, это
при виде ревнителей Божьих правил
в одеждах старого пражского гетто.
На этот сплав комичного с вечным
(секрет неколющегося ореха)
гляжу с насмешливым добросердечьем -
глазами чеха.
1994
МНИМАЯ БАЛЛАДА
1.
Неплавный я человек и странный.
Топчусь, рывками сменяю шаг...
О чем я думаю, когда на экранах
земной ворочается шар?
О том, как он мал. О мертвых бизонах
или китах. О дырах озонных.
О мусорной сфере, которая "ноо".
О том, что из "Я" не слепить иного.
О ракетах Ирана, танках Китая.
Опять о себе. О замученных прочих.
Текст бытия превращается в прочерк,
бумаги тела не покидая.
Предел - Альцгеймер. Сестра в косынке.
Беспамятство и миазмы палаты.
Короче, здесь не найти посылки
для сколько-нибудь изящной баллады.
2.
Упадок духа. Перед тобою
в рваной шали из облаков
шар, чей рисунок материков
уже обрыд, как рисунок обоев.
Люди однообразны, как пляжи,
как в кинофильмах интимные ласки.
Мысли думаются для продажи,
Чувства чувствуются для огласки.
Шар, обегаемый общей сплетней,
живущий в стиле склочной семьи.
Странно думать, что он последний
из созданных двадцати семи*.
Шар, "поворотись-ка, сынку",
Дай мне выловить из баланды
ниточку мяса. То есть посылку
для сколько-нибудь изящной баллады.
3.
Итак, местечко. Велят влюбиться
в нахальные шуточки, утайку доходов,
битье лежачего, пейсатые лица,
нравоучения доброхотов.
Бывает, в тягость принадлежанье
к объекту злобы грицьков и фрицев,
к народу, который все обижали
за всхлипыванье, возведенное в принцип.
В заштатный быт, как ботинки, тесный
вживайся, в чем бы ни сомневался.
Внедрись в язык, в котором "бесчестный"-
то же, что "нечестный" (потеря нюанса).
Ищи мотив добровольной ссылки
в страну, где тебе лицемерно рады,
и всё, кончай бубнить о посылке
для сколько-нибудь изящной баллады.
4.
Для сколько-нибудь изящной баллады
это, конечно, не материал.
Но я говорю без всякой бравады:
все, что я потерял,
следовало потерять. Как галстук
голому. Как богатство
безнадежно больному раком.
ибо естественно жить под знаком
небытия. И глядеть на лица
с печатью Ицхака и Исмаила
в размышлении, с кем бы напиться,
чтоб хамелеон-душа изменила
на час окраску! Но здесь берберы
истерику выражают иначе,
не пьют, согласно заветам веры
и не заходятся в русском плаче.
5.
А кроме того, вопреки резонам,
мне нравятся в поле, в ларьке, в пекарне
чубатые, с крепкими шеями парни
с открытым бычье-бараньим взором,
в военной форме или без оной,
с готовностью к хохоту или спору,
вспыльчивые, и с врожденной
верой в почву, свою опору.
А то от приморского ветра свежего,
от гористости, я бы сказал, невычурной
внутри начинает звучать сольфеджио,
немое, но словно по нотам выученное
(когда? В предшествующем воплощении?),
а то на холмов подъемы и спады
глянешь - и сплин прорезается щелями.
Буквами для изящной баллады.
1994
* Согласно изысканиям Каббалы
***
Науму Басовскому
Поэт прислушивается к земле, в которую ляжет.
Вдыхает запах её травы, кореньев, пыли.
Вот, собственно, всё, что его с этой почвой свяжет.
Его забудут, как остальных забыли.
Запечатлеть бы этого края цветенье
на языке, чужом для этого края, -
не зная названий птиц, зверей и растений,
названий месяцев года - и то не зная!
Из прежнего времени-места вырванный с корнем,
однако видящий мир неразъёмным целым,
поэт задумывается о зерне, которое вскормит:
не помыслом, и не делом, а просто - телом.
Какие просторы голос его взрастили!
А он и о кочке не станет судить предвзято.
С израильской маркой, в поисках адресата,
его письмо возвращается из России.
Ну вот, и весь капитал, что трудами нажит:
живое (пока) лицо не портить гримасой скорби.
Поэт прислушивается к земле, в которую ляжет.
Задумывается о зерне, которое вскормит.
1995
СУББОТНЕЕ
Тишина и безлюдье. Царица-суббота.
Что за кайф - распрямясь от недельного гнёта,
по зелёным проулкам выгуливать дочь!
Город смотрится Питером в белую ночь.
Только идолов нет. Изначальна суббота.
И невольно почуешь, как зной или вес:
на незримых опорах еврейского быта
раскалённая, держится чаша небес!
Так и видятся руки безумца-араба,
на ступеньки рывками стащившие труп
и берущие галстуки из гардероба
или с кухонной полки - коробки для круп...
Мне, с ноздрями, поныне забитыми гарью
душегубок, изгою, любившему Русь, -
за домашний грешок Авраама с Агарью
так платить? И куда я теперь уберусь?
Тот, Кто смотрит за нами, скрываясь в истоме
африканских небес, - не скупится на гнёт.
Не меняет убийцу и жертву местами.
А в субботу автобусов нет... Не рванёт.
1995
ПРОКЛАМАЦИЯ
"Сделать отсутствующими присутствующих!
(Мина клоуна, непреклонный жест),
пляж расстрелять автоматом трясущимся,
в школьном автобусе школьников сжечь -
так создадим палестинскую нацию!
Гнать евреев - арабская честь!
Была и будет не вашей, а нашею
земля, где вздумалось вам осесть".
Вонючка с харей снулого хариуса,
в бессменном хаки стервец-герой.
О, как растроганно лобызаются
миротворцы с куриной его куфиёй!
И ничего, что тверская уборщица -
"Чур меня, чур!" - закрестилась бы вслед, -
он предводитель народа борющегося,
такой, как есть, и другого нет!
А мы, хоть щека от пощечин синяя,
хоть бойней разит от арабских газет,
кричим друг на друга: "Хватит насилия!
Уступим полдома - это ж сосед!"
...Господа, до того как соседа под руки
вы введете - рассесться в нашем дому,
уважая известные ратные подвиги
генералов-гиен, подвластных ему,
заморочив нам головы, руки выкрутив,
запретив отвечать на камень и нож,
приводя аргументы большой политики,
для которой всякий партнер хорош,
подкупив еще одного инсталлятора,
чтоб создать парламентский перевес
и рвануться совести наперерез
ради выгод Ясера Бесноватого, -
господа, владельцы счетов и истины,
истеричное втирчивое жидовьё,
я, мишень для ножа, гранаты и выстрела,
напоследок шлю вам проклятье свое.
Если сей народец лишен достоинства,
предлагает в ответ на резню -гешефт,
я к нему не причастен - поклон до пояса! -
аплодирую нашим врагам в душе!
1996
***
Думы мои, думы мои,
лыхо мэни з вамы...
Т. Г. Шевченко
Мыслям, небо пересекшим, оказалось негде сесть.
До блаженного зимовья им уже не дотянуть.
Я бы проклял ваши ружья, ваших псов и вашу спесь,
только что с вас взять, убийцы - в этом ваша суть.
Есть земля, где похоронят; где услышат - нет земли.
Сядьте, птицы: вот ладони, на которых вы росли.
Как проснулись, так усните: невесёлый, но итог.
Лишь на выстрел не вспорхните - на свинца глоток.
1996