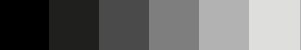 |
 |
Фекликс Гойхман, «КЛЮЧ»Голоса Анатолия ДобровичаСвою первую книгу, первую, если исходить из текста врезки, данной на замыкающей странице, поэт Анатолий Добрович назвал "Монолог". Судя по портрету, напечатанному там же, автор - далеко не мальчик. И в этом убеждает не столько портрет, не столько датировки разделов, первая из которых - "1955", а последняя - "1999", сколько предлог "из" на шмуцтитулах: "Из цикла "Подоконник", "Из цикла "Род возвращенья" и т.д. Другими словами, перед нами "Избранное" Анатолия Добровича. Что касается названия, то слово "Монолог" вполне подходит для подобного издания, оно ему адекватно, тем более что самым распространенным местоимением в собранных текстах является местоимение "я". И в этом нетрудно убедиться, пролистав аккуратно изданный томик. Казалось бы, на этом можно было бы и закончить знакомство с книгой неизвестного в свои зрелые годы, автора, если бы не два обстоятельства. Первое из них - общее для нас, литераторов, рожденных в послевоенном Советском Союзе, и выросших, перефразируя Анну Ахматову, как одуванчики у забора, то есть не благодаря обстоятельствам, а вопреки им. Отсюда и наши первые книги к сорока и пятидесяти годам, книги, изданные, как говорили раньше, на медные деньги. Второе же обстоятельство далеко не так универсально, как первое, но связано с ним. Заключается оно в том, что первая книга не может быть "Избранным", ибо предыдущих книг не было. Она может быть только первой книгой, пускай и собранной по крупицам за долгие годы, но являющей собой некое концептуальное единство, единство, в котором отражен не столько жизненный путь автора, сколько подвиг его служения. В таком случае, название "Монолог" на титуле уже не выглядит столь закономерным и обтекаемым, как это представлялось вначале. Напротив, в этом титуле проявляется некая творческая тенденция, при объявлении которой становится понятно, что разговор в стихах пойдет не о мелочах, а о вещах сущностных, разговор пойдет по большому счету. Итак, обстоятельства творческого генезиса Анатолия Добровича складывались не лучшим образом. Нужно ли удивляться, что вследствие этого в нем развилось недюжинное чувство противоречия. Так или иначе, оно проявилось во многих его стихах. Вот, например "Псалом":
Позволь исправить Тебе молитву вверх ногами… …О Боже всеблагой, прими нас в лоно неверия!.. …Он поднимается, скрипя протезом. Глаза отводит. Гремит ключами. И всякому распахивает щель. Подвал. Блиндаж. Подземный рай". Позволю себе заметить, что обращение "Боже" с прописной буквы в этом контексте - не дань клерикальной моде. Это, если можно так сказать, внутренний оксюморон, слово, в котором сочетаются контрастные коннотации. Это как бы и Бог, и не бог, а одноногий инвалид, церковный сторож, и рай его не на небе, а под землей. Данный подход к реальности в книге А.Добровича не единичен. Мир, предстающий нам в его стихах, биполярен и перевернут. Даже у автора появляется антипод, некий Толя Иванов, "который дуб, но все же босс". Сей персонаж выведен в стихотворении "Энти". Название, по-своему, примечательно. Это тоже внутренний оксюморон, он означает одновременно и местоимение "эти", данное в пародийной форме, употребляемой российскими антисемитами, и искаженное слово "анти", что, по идее, должно напоминать об "Антимирах" Вознесенского, где тоже имеется свой антиавтор. Наряду с этим автор использует другой прием, тоже ведущий к остранению. Он вкладывает в очевидные и порядком затертые понятия, такие, например, как "любовь" неожиданный, я бы сказал, провокационный смысл:
Однако нагромождение антитез - еще не повод для поэзии. Поэзия взыскует образа. Только художественный образ в соответствующем звуковом убранстве может родить в сердце читателя "волшебный отзвук". И Анатолий Добрович находит этот образ. Образ, который по самой сути своей противоречив. Речь идет о всяческих оболочках. Дело в том, что русская поэзия традиционно обращалась и обращается к содержанию объекта, а не к его "наружности". "Что есть красота, - задавался вопросом Николай Заболоцкий, - и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?" В середине двадцатого столетия данный вопрос казался риторическим. В те славные времена ответ на него еще был очевиден. Увы, наша эпоха расставила иные акценты. Один из героев Мартина Вальзера, глядя на фигурную решетку в чужом окне, грустит. Он тоже хотел бы жить за решеткой, но его квартира расположена в верхнем ярусе многоэтажного дома, а не в бельэтаже, и поэтому решетка на его окнах выглядела бы нелепо. Герой стихов А.Добровича не обращает внимания на подобные мелочи. Взаперти, в тесноте он чувствует себя вольготно, ибо так же, как "круги на воде - рассказ о камне", так человек за решеткой - рассказ о свободе. Открыв1 дверь или разрушив темницу, если дверь на запоре, всегда можно выйти вон. Вот, почему, наверное, "в набитом автобусе, вместо того, чтобы злиться, я шутил". В одном из поздних своих стихов автор рисует такую картину:
Прямо вижу изображение этого летательного аппарата в натуральную величину, которое исполнил художник типа Чака Клоуза или Дона Эдди. И хотя манера Анатолия Добровича далека от канонов гиперреализма, есть нечто общее в подобных взглядах на реальность. Теперь, пожалуй, самое время перейти к стихам последнего раздела, стихам, написанным в Израиле. Я выбираю их не потому, что они самые зрелые или самые яркие, что не исключено, а потому, что они самые своеобычные для поэта Добровича. Нетрудно вообразить, что стихотворец, столь остро чувствующий контрастность мира и всячески подчеркивающий ее, оказавшись в иноязычной, инокультурной среде и сделавшись вынужденным билингвом, переживает личную драму. А впрочем, если подумать, должно предположить, что он воспримет это не столько как катастрофу, сколько как редкую возможность затеять разговор о своей инородности, которая из разряда подразумеваемых вдруг перешла в разряд очевидных. Поэт даже способен признаться в любви, чего раньше никогда не делал, по крайней мере в стихах, признаться в любви к этой, не пускающей в себя вселенной, так она его воодушевляет.
Должно быть, это при виде ревнителей божьих правил в одеждах старого пражского гетто. На этот сплав комичного с вечным (секрет неколющегося ореха) гляжу с насмешливым добросердечьем - глазами чеха". Вот когда современный человек по-настоящему свободен. Вот когда он способен даже уподобить себя божеству. Правда, не общепринятому, а своему собственному, одноногому. Помните церковного сторожа?
Культя нет-нет, а заболит. Стучу протезом, инвалид, Входя в родную синагогу". Что же подразумевал поэт, называя свою книгу "Монолог"? Может быть, Собеседника? А может, он имел в виду голоса, долетающие из мрака, прислушиваясь к которым он, словно спятивший врач-психиатр, вздрагивал в невольном испуге, и губы его шептали: "Чур меня!"?
|