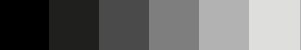Тетрадь пятая
МЕЧТА О СТИХОТВОРЕНИИ
1969 - 1974
ГРАВЮРА
Ю.Соболеву
Я развёртывал мир бесконечным рулоном:
среди горных ключиц и грудей
уходила в низины, тянулась по склонам
бесконечная цепь из людей.
Я взглянул: эти люди не шли, а стояли,
не в затылок, а каждый - лицом.
Я по буквам читал эту строчку печали
с потерявшимся в бездне концом.
Их одежды сменялись по странной причуде:
рядом с латами - пёстрый пиджак.
Эти сбитые с толку, застывшие люди, -
кто расставил их так?
Я рывком обернулся, и тут же умолкнув,
с той поры неподвижно стою
между мантией красной и рваной футболкой
в этом вечном строю.
1969
ВЕСНА, КУЗЬМИНКИ
Березы с первой зеленцой
птенцы в пуху, без оперенья);
дождь с позолотой и ленцой;
прудов кузьминских акварели;
дорожки парковые, - всё
дано мне сквозь твое лицо:
вот солнце этого апреля!
Я за твои принять готов
приподнятые брови сосен.
И клуб тяжелых облаков,
как губы, выточен и сочен.
День будет поводом для сотен
уподоблений. - Мир таков!
Я шторы - в стороны: окно
выходит в лес, прошитый свистом,
веснущатый... И в нем пятно
к пятну положено со смыслом.
Я шторы - в стороны: окно
выходит в зелено-вино.
В твое лицо. В мое бесстыдство.
1969
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ПОЕЗДКА В КАУНАС
Каунас меня коснулся
только скрипичным изгибом звука,
только кончиками шпилей,
только грудью молодой литовки.
Он открылся - и закрылся
с тусклым звоном старой шкатулки;
что там было - я и не увидел...
Каунас - моим остался.
1969
МЕЧТА О СТИХОТВОРЕНИИ
К утру написанное мной
отстало от бумаги.
Лист вынимался из-под слов.
Cлова я сдул, как одуванчик.
Остался долгий женский взгляд
перед бессонными глазами
влюбившегося.
1969
РЕСПИГИ
Скрипичная фамилия: Респиги.
Попискивают струны от натуги,
щекотно и мучительно смычку
сводить визжанье в звучную тоску
над декой, придыхающей в испуге.
О скрипка, перехваченное горло!
Вопи, жестикулируй и картавь.
О Генуя, Тоскана и Ливорно,
и Рима респектабельный квартал -
Респиги, чье терзание мажорно...
1969
ЛЕТО - ГЛАЗАМИ
Книзу качнулась
(утро напоминало
горячий молочный кисель;
июль стоял у реки и дул
на алюминиевую ложку)
ветка под птицей.
1969
ОБЛАКА. ПАНТОМИМА
Модрису Тенисону
Мы всплыли на поверхность облаков
и двинулись поверх обломков гипса.
Ваятель спятил. Понял, что ошибся.
Всё переколотил - и был таков.
Отколотых голов немые рты
лепили запоздалое известье.
Рельефно подбирались животы.
Парили кисти в завершенном жесте.
Движения бродячих псов. Непредумышленность касаний.
Движения отхода в сон. Парад гримас под небесами.
Взрывался пух, слипался снег. Обваливались башни, стены.
Намёками всплывали сцены труда, охоты и утех.
Шеренга ружья подняла: тела валились в смертной муке,
из рук передавая в руки остатки якобы тепла...
И вдруг
под облачной толпой
разверзлась в громе барабанов
земля,
в прогалину проглянув
со дна
колонны голубой!
И я увидел: полу-изваянья
подтягивались жадно к полынье.
И холод неба, ужас расстоянья
открылись мне. И суть открылась мне:
Отжив последнее мгновенье,
мы превратимся в облака,
чтоб изредка,
издалека
послать земле благословенье.
1969
***
Когда она лежала в больнице
(странные две недели: точно я спал
или, наоборот, проснулся после нескольких лет сна), -
кончался февраль, снег пахнул псиной,
под настом было пусто: грохотали шаги.
Я пил порошковое молоко в магазине,
переходил ледяную улицу и -
шел на третий этаж, где она лежала
(обманывал медсестер).
Она была бледной, и ей очень хотелось
ко мне: слишком долгий перерыв.
Шутили: мужское отделение рядом.
Курили: пепел - в коробок от сигарет.
За окнами на пустыре раз в четыре минуты
описывал петлю автобус.
Впервые я чувствовал себя так,
словно я уже совсем старый.
Словно у меня не тело, а организм:
с почками, сосудами и всем прочим.
Мой голос, мои брюки в клетку - всё было слишком моё.
Настолько моё, что чужое для всех на свете.
И то, что надо теперь пойти купить
фарш на котлеты, сдать туфли в починку, -
было страшно! Это означало всего лишь:
сдать туфли в починку, купить фарш на котлеты.
Ее глаза, ее большой рот с привкусом болезни
вспоминались потом, как глотки красного вина.
И в набитом автобусе, вместо того, чтобы злиться,
я шутил.
И в эту игру со мною играли.
1970
***
А в это время лился дождь.
Он вытянулся и понёсся
вниз головой - в шуршанье рощ
и под шипящие колёса.
Покуда он полол асфальт -
покуда капли рвал щипками,
я чуял весь его охват
и верх, накрытый облаками.
Я, как гремящеее рядно,
под ним - под каплями без счёта -
распластан был. И заодно -
над ним: как руки самолёта.
1970
ЛИФТ
Необъяснима любовная нега, охватывающая
этих двоих; приходится только сравнивать:
с тем, как в солнечный день пахнет снег на лыжне;
с победоносным шумом дождя после долгой засухи;
с громоподобным вкусом
персика в середине зимы... Сердце колотится
уже при нажатии на кнопку лифта:
двери разъезжаются, впустили, сдвинулись,
и это уже начало соития,
ждущего там, на шестом этаже,
после нажатия на кнопку двери...
1971
СВИДАНИЯ
Душа есть место для свиданий. Плац.
Ни деревца - и листовое солнце.
И глухота от грохота его.
Там пополудни нет учений. Стой
с огрызком тени. Тыльной стороной
ладони - утирая пот со лба.
Тогда на том конце ты видишь - да.
Ты видишь: вот Он. Промельк, выдох пыли,
сгущенье поля силы. Это всё.
Душа есть место для свиданий с Богом.
Потом во сне на этом же плацу -
столы, столы под купами столетних
дубов и лип. И фонари в листве.
И рты и ноздри струнных инструментов.
И пробками стреляющие лица:
откупорены, пенятся глаза!
Кто сны мои творит с такою мощью?
Ищу всю ночь, бродя среди гостей
главу и славу этого застолья.
И вдруг догадка: я и есть источник...
Но тут же - резко, как хлопок по бубну:
Очнись! Опомнись! Это - наяву:
когда душа от тысячи сапог,
как плац на солнце, отдыхает.
1971
ПИТЕР
Памяти Е.П.Кок
Сопровождающий каналы
рядами пыточных домов
под масками венецианцев...
Хранящий в лепке бледных лиц
нордическую лень и страстность
и отчуждения ледок....
Повелевающий: "Смотри!
Туда! Сюда!" И в планировке -
вельможи поднятая бровь,
изогнутая кисть альтиста,
шпицрутена прямолинейность
и непреклонный перст царя.
На площадях, на перекрёстках
себе нельзя принадлежать:
всё побуждает стать скульптурой,
во всём указ и овладенье,
внушенье каменного жеста,
невыразимого в словах.
1972
***
Р.Ф.
Что сделали со словом русским
профаны, хамы, босяки!
Что сделали со словом русским -
квадратным завитком этрусским,
скреплённым в точные стихи
по набережным петербургским!
Скребли им днища повара.
Его солдаты на привале
в ладонях с хохотом катали -
о, как картошку из костра!
Захватанное обиходом,
оно пропахло потом, йодом,
соляркой, порохом, борщом,
кирзой, чёрт знает, чем ещё.
И что? Тем слаще оттереть
полой одежды, комом ваты
и вставить в невские закаты
пленительным,
как встарь и впредь.
1972
ИДИОТКА ИСТОРИЯ
Когда я, смущаясь, выпытываю у Истории,
что делал умерший такой-то или такой-то
(фамилии можно нарвать на ближайшем кладбище) , -
История просит две цифры, висящие на тире,
как грузы на штанге, и через миг
выбрасывает из блока памяти:
"Такой-то - служил в частях атамана Платова".
"Такого-то - расстреляли в ЧК за спекуляцию".
"Такой-то - ждите... - умер в один день с Ландау".
"Такой-то...(?) - Этот отсутствует".
Отсутствуют миллиарды тех, кто не связан
с персонами, засвидетельствовавшими присутствие.
Идиотка История. Ведь они жили!
Почему я должен верить, что Пётр Петрович Петров
(тысяча восемьсот такой-то - тысяча девятьсот такой-то)
жил тогда, когда ему пожал руку Троцкий
или набил морду Есенин, а не тогда,
когда обдумывал приглашенье к предательству,
или расстёгивал платье у первой женщины,
или мальчишкой однажды понял, что смертен?
1972
***
Р.Фрумкиной
Мне снилось счастье. В майке белой,
подстриженный и загорелый,
в какой-то дальний клуб Москвы
я шел на лекцию Морено,
где будут наши непременно:
и молодежь, и шеф, и Вы.
Я шел с отцом, седым, нарядным,
всегда по-юношески жадным
до новых лиц, имен, идей.
И спорил о душе, о Боге,
о психодраме, Фрейде, йоге,
о понимании людей.
В битком набитом помещенье
я ощутил сердцебиенье
от речи редкой глубины
и от всеобщего согласья:
как будто все в десятом классе
и в педагога влюблены.
И шеф поглядывал в мой угол
с лицом заботливого друга,
и трогал сердце Ваш кивок.
Ведь в центре общего вниманья
была наука пониманья
- моё призванье, мой конёк.
Как будто не было гнетущей
растраты сил на хлеб насущный,
и неоконченных статей,
и давней клички фантазёра,
и многолетнего позора
несостоятельных затей.
Все замыслы, куски, детали
сошлись в замок со звоном стали,
сверкнули на глазах у всех.
И выходило непреложно,
что понимание - возможно.
А также счастье. И успех.
И был я свежим аспирантом
с умом, амбицией, талантом.
И даже больше: под конец
я вышел песни петь со сцены -
и в такт притопывал Морено,
и протирал очки отец.
1972
ШАХМАТЫ
Утром белые фигуры на доске расставляю.
На хлопающих лыжах бегу в мороз.
Ночь уводит своих слонов и коней -
лес отодвигает чёрные фигуры.
Крест-накрест себя тысячу раз!
На любительской сцене прочитаны все монологи.
- Левою палкой!
Мужество больше не двигает мысли - двигает ноги.
- Правою палкой!
И опять, и опять, и опять
Белые начинают и выигрывают.
1973
СОН: КАМБОДЖА
Я землекоп. Дворцы Ангкора
освобождаю от лиан,
от глины, лиственного сора,
сухого кала обезьян.
Стоянкой праздных марсиан
у входа в храм торчит палатка.
И утро гнилостно и сладко,
как залежавшийся банан.
Но каково мне просыпаться
среди улыбчивых богов! -
Для них неслышен ход веков,
невнятны речи святотатца.
Огромны лица. Свет зари
упёрся в каменные веки:
зрачки повернуты навеки
на свет, разлившийся внутри.
И этих ликов тайный шифр
непроизвольно переписан
лицом кухарки с чашкой риса,
углами губ её больших.
1973
СТИХИ О СТИХАХ
Лучшему другу не объяснить.
Стихи это запах белья с мороза, и раскалённого утюга,
а не сноровка прачки.
Стих для меня - это вдох.
Но, как известно, подайте выдох!
В пятнадцать лет я пользовался известностью.
Приятель-боксёр сказал: "Да-а-а.
Мог бы я так сочинять стихи,
на фиг бы мне заниматься боксом?"
И заказал душевное - для его девчонки. За это
взялся надраить морду всем, на кого укажу.
На одного я и впрямь указал. Поэтишка сраный.
В сторону выдыхай! В носовой платок!
Душевное - это легко.
Это обменивается на зуботычины.
1973
ПОЕЗДА
Люди сходят с поездов,
предвкушая умыванье,
приглушенность голосов
и гостинцев раздаванье,
и соседок у дверей,
и рукав с пятном кагора,
и баюканье детей,
засыпающих не скоро,
и крахмальное бельё,
и любовь жены и мужа,
и открытье, что жильё
стало шире (или уже),
что душа на стороне
налеталась, будто птица,
и к столу, окну, стене
надо вновь приноровиться,
разом смыть, как пыль, как пот,
лица, хлопоты, распутья -
и улечься в сумрак вод
богоданной первосути.
Люди сходят с поездов.
На платформы. На грунтовку.
Вслед за каждым я готов
Спрыгнуть, сделать остановку...
1973
АННА -
так падает тяжелая монета,
так на рассвете колокол гудит.
Вот имя керамического цвета
и безупречной формы пирамид.
Носи его - массивный амулет,
впитавший соль и бремя тысяч лет:
от бремени шаги плавнее.
И друг запомнит из твоих примет
полоску красную на шее.
......
Я с дочерью, во мне душа живая
чуть теплится, и заново глазами поводя,
я заново предметы называю:
вот сосны. Вот песок. Вот шум дождя.
Вот на асфальте велосипедист
увяз в сиянье спиц, а мимо лес несётся.
Вот как закинутый высоко в небо диск,
высоко в небе медлит маленькое солнце.
Я с дочерью, и с некоторых пор
мне родственнее жизнь всего живого.
Мир для меня округл и зелен снова,
как зреющий на грядке помидор.
.....
Дочка моя - это не я. Это другой человек.
Беличий бег в колесе бытия!
Не подменить: это не я -
ты начинаешь бег.
Есть трехлетнее существо
и тысячи разных вещей.
Что ей страшно и что смешно, ведомо только ей.
Она касалась неба, земли
то локтем, то щекой.
Как эти встречи в душу легли, не знает никто другой.
Где источник ее тревог? Во мне ли у ней нужда?
Меня пугает ее кивок,
Вместо простого "да".
1971 - 1974
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Осень, осень, детства отголосок
из тоннелей парковых аллей.
Тонут скамьи в лиственных заносах.
Медь платанов. Замша тополей.
Горький дым от ворохов и копен.
Сладкий запах холода в тени.
Осень, вкус арахиса и кофе,
дымные и солнечные дни!
Ко глазам аллею, как трубу,
поднеси - увидишь бег полосок.
Это спицы светятся в колёсах?
Или у детей светловолосых
тень волос колышется на лбу? -
Это клёны задают вопросы
то себе, то небу. Это осень
по ладоням смотрит их судьбу.
Шорох, шорох, шорох под ногами.
Здесь мы с папой в шахматы играли...
На глазах у клёнов жгут листву.
Я уеду, я вернусь в Москву!
Больше трогать этого не надо,
дай пощады, осени громада,
я давно на севере живу.
1974
ПРИСНИВШИЙСЯ ГОРОД
Тот город звался Семиозёрск.
Его эмблемой была гора
с подкововидным небоскрёбом на вершине.
За той подковой (я там бывал)
синел сквозь арку авиадром,
где неболёты стартовали без разбега.
Тот город парков и белых астр!
Высоких окон и женских глаз,
по-детски ярких и не прячущих волненья!
Там улыбалась мне любовь.
Там улыбался я любви,
медлительно лаская тело милой.
И жёлто-серый осенний тон,
и холод линий - и теплота
нагого тела - всё слилось в романе,
который твёрдо, хоть и смутясь,
отверг редактор-провинциал
за невозможность, просто невозможность.
И был мне лёгок его отказ
и вид залысин и мягких черт,
и я проснулся с понимающей улыбкой.
1974
ИМПРОВИЗАЦИЯ
Алексею Зубову
Пчела (бум!) звука дождалась (друм!) часа:
нектар (дзинь!) - градом и без счёта
из труб,
огненных цветов (джах!) джаза
в хвощах (чрих!) палочек, тарелок, щёток!
Ликуй,
разведчица, и пулей -
в улей.
Танцуй,
кланяясь по церемониалу,
чтоб жарко
ульи
пчёлами дохнули -
и в одурь саксофонов,
целыми роями!
Плющом из серебра
вьётся
тема.
Горящий саксофон -
орган
тела.
Ты тему и себя
с медью
плавишь,
бросаешь в струнный луг,
в заводь
клавиш,
и джаз, как выпученный глаз
Луи Армстронга, - тускнеет от восторга.
Домой (дзинь!), пчёлы: в валторну, в скрипку -
пополнить скрытно
жары запас.
Домой, домой, мальчик,
что тихо вскрикнул,
босой ступнёю
ожжась о джаз.
1974
ШЕСТВИЯ
Александру Левину
Рыданием цезур александрийский ямб
обкладывает слух, язык мне истомляя.
Вот лестница возникла приставная
из яви в сон. Верней, из дрёмы в явь. -
Я судорожно юн. Осмеян. Тем острей,
проскальзывая мимо домочадцев,
на свой чердак вести двоих гостей,
из этих, с кем "не следует встречаться"...
Картины одного из них
(худой, кудрявый, тускло-рыжий)
висят на чердаке среди хламья и книг.
Но что за бред - я их впервые вижу!..
И подивился я как бы озёрам
на стенах собственных. Там линия была
петлистой. Связной. Дышащей простором,
Как сетка стрекозиного крыла.
Она была и формой, и узором!
А красок тишина и чистота
не подлежала передаче словом.
Всё, что могу припомнить про цвета:
оранжевый соседствовал с лиловым.
Тела, пластичные, как вывихи корней,
в ворсистом воздухе, пульсируя, чернели.
Там были шествия деревьев и зверей
и воинских когорт на дне ущелий!
"Вот это да" - сказал бы гость второй,
но промолчал. Не надо подтверждений:
кто, как не я в трех лицах был герой
такого сна? Кто, как не я, был гений?
А рыжий кинул взгляд из-под опухших век,
иронизируя. И не ища главенства.
Учтив, но суховат - как всякий человек,
пустившийся на поиск совершенства.
1974