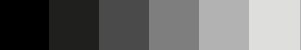Тетрадь седьмая
АТЕЛЬЕ ЯМБА
1965 - 1987
Не ямбом ли четырехстопным?..
Вл. Ходасевич
1.
А?.. В самом деле. Что за форма! Насос. Накачивает грудь.
На вас морская как бы форма, вы как бы только что из шторма,
уместно плечи развернуть.
Хорей - простак. Верлибр тяжел.
Гекзаметр звучит натянуто. А ямб - верительная грамота.
Ямб на руках - и ты посол
страны Поэзия. Ты в деле.
И представляешь в тот же миг империю, где нет жилых
домов: лишь храмы и бордели...
Хотя сей пыл и мне знаком, -
любой мундир на мне мешком.
Субтилен я по самой сути. Какой уж есть, не обессудьте!
За метром - рифма. Адский труд. Уложат страсти и сужденья
в две первых строчечки, и ждут
созвучия как подтвержденья
от Господа! Я сам таков:
пишу ль письмо, отрывок в прозе -
любые мысли вне стихов, как те ботинки, каши просят...
Мне скажут: "Наломал ты дров. И метр - мундир, и рифма - цацка.
Так что ж ты держишь нас за лацкан? Бросай стихи и будь здоров".
Не-ет, я намерен поболтать. Так, просто. Самоутвердиться.
О черт дери, ведь свищет птица, когда ей хочется свистать.
А ямб - мой трюк, мой перепляс:
хочу завлечь, затронуть вас.
2.
"Я тот, которому внимала" - отнюдь не ария моя.
Внимали мне довольно мало, и даже близкие друзья.
Я тот, кто сотни лет назад, когда детинец штурмовался,
в атаке с лестницы сорвался... Не то чтоб трус - плохой солдат.
Я не представлен был к наградам: я тот, кто на посту проспал.
Я не зарыт с вождями рядом, я тот, кто без вести пропал.
То ночью забреду в болото. То страже сдуру отзовусь.
То, выйдя по нужде из дзота, на поле минное нарвусь.
Я тот, кто к суше не доплыл из продырявленного бота.
Мне просто нехватило сил!.. Но исчезая без почета,
Я ДОЛЖЕН БЫЛ СКАЗАТЬ ВАМ ЧТО-ТО.
Но не успел. Или забыл.
3.
Не добывается ни писка
из сердца. Тишь и благодать. В душе, как холодильник, чистой,
ищу - чего бы поглодать. Вот лягу спать и по-собачьи
к себе ладони подогну. С самим собою посудачу,
сочту баранов и усну.
Но не усну. Мне думать странно, что будет "завтра", будет "век".
Что будет завтрак после ванны. Что я "живу как человек" ...
Да что я в мире провороню? Какой торжественный момент?
Явление себя в природе? Проход Истории во мне?..
Но я мусолю сигарету. Я прожигаю простыню.
Я жизни собственной примету
ищу - и сутки растяну.
4.
Ей-богу, жизнь - какой-то фарс. Подозреваю это с детства.
Мы смотрим в зеркало ан фас; в трельяж полезно поглядеться.
Случайно в створке боковой мы обнаружим профиль свой,
не предназначенный для взгляда, не "сделанный"...И ах! - досада...
Двадцатый век, идет резня. Добро и Зло - их обрубили
на дереве Добра и Зла. И разобрали на дубины.
Ружейных дул холодный взгляд - и до того, как вы смекнули,
какого дерева приклад, - вас изрешечивают пули.
Чей выстрел первый - тот и цел. Но здесь - философу работа.
А я хотел СКАЗАТЬ ВАМ ЧТО-ТО.
Но был вторым. И не успел.
Нет, повторяю: это фарс, не стоящий людских мытарств.
Державы (пусть и не Российской) - как гибнут лучшие сыны?
Храбрейший - в первый день войны.
Честнейший - в первый месяц чистки.
Народу ближе идиот, чем тот, кто мыслит беспристрастно.
Ходить на улицу опасно. Там эволюция идет.
Так вот: я вижу сотни лиц, значительных и напряженных,
ан фас охотно отраженных чредой экранов и страниц...
Но глянь в трельяж - и у лица, с которым, вроде, всё в порядке, -
вдруг профиль старого самца, который... Нет! Я до конца
не доведу своей догадки. Пишу - и чувствую спиной,
как некий светоч поколений,
из благородных побуждений, заносит палку надо мной.
5.
Вся суть моя запрещена как непристойность и крамола
негласным духом комсомола и пионерского звена.
Вживаясь боком в коллектив с его заправкой душ и коек,
я был заведомо труслив
и политически нестоек.
Все по шоссе, а я - сторонкой. Не мог простейшего понять:
что я задуман шестерёнкой, и в ней зубцов должно быть - пять!
Уже деталь, а не сырец! Не самоцель - одно из средств.
Неподчиненье этой карме -
считали за шестой 0зубец.
И потрясали кулаками.
6.
В те дни, отчаянно коптя, земле оставив тонны гула,
сосцы созвездий тупо ткнуло слепорожденное дитя.
Колонны заводных людей,
бренча латунью славы прошлой,
рвались отшлепывать по 1дошвой брусчатку древних площадей.
А на плечах у тягача,
как воцаряющийся идол,
величественно плыл, торча, снаряд фаллического вида.
Давался стойкости зарок. И видя смертоносный 1фаллос,
толпа довольно улыбалась, и маршал брал под козырек...
А я писал (а что я мог):
Меня никто не пожалеет, а кое-кто войдет в азарт,
когда глаза плевком залепят и руки вывернут назад...
Их подбородки, как составы, рванутся, праведные с мест.
И мир, стуча, меня оставит: пустой заснеженный разъезд...
И кто-то то в вахтенную книгу внесет мою неправоту,
пока я буду никнуть, никнуть
и погружаться в темноту.
7.
Я избегаю земляков. Я груб с приятелями детства.
О Господи, куда мне деться от встреч, от писем, от звонков?
Бедняги в собственном бессилье удостоверились давно -
и как бы мне препоручили то, что самим не суждено.
За предоставленный кредит в их уважении и вере
мне рассчитаться надлежит по трем статьям, по крайней мере.
Пункт А: я должен быть известен. Пункт Б: я должен быть богат.
Пункт В: я должен быть из бестий, кто поимели всех подряд.
Им все равно: где я напутал, что я открыл, велик ли, мал.
Им важно - "взял" или "не взял"
"свое": по этим самым пунктам.
"Ума, конечно, не палата, - беззлобно думают они, -
но были ж проблески таланта! Так жни, что сеял! Не тяни!"
Я им ответить не умею. Заговорю - сдаётся мне,
что я взбираюсь по стене, держа в зубах свою идею.
Ведь сам я грезил, как о чуде: вот я вхожу в собольей шубе...
Вот бросил шубу на паркет... И в даме, расстегнувшей лифчик,
поёт восторг: "Такой счастливчик! Такой талант! Такой поэт!".
8.
Все та же самая порода, какую с юности люблю,
мой дух смущает - как шмелю
туманит разум запах мёда.
Из домработниц, из уборщиц, из санитарок - чьи соски,
под легким ситчиком топорщась, колышутся и ждут руки
(речам и взорам вопреки).
Любить таких не полагалось: не тот пошиб и низший класс.
Но всё кружилось и сдвигалось от деревенских синих глаз!
Я сознавал развал вселенной, я разрывался пополам
при виде ямки подколенной у баб, нагнувшихся к полам.
И умножая страсть на жалость, я весь, и тело, и душа,
таких коровушек, случалось, любил - любя, а не греша.
Когда б не чокнулся на славе, определенно бы присох
к Альбине, Томке или Клаве, и этот шаг не так уж плох.
Простонародье любит Бог...
9.
О коридорная система, и этот дом, и эта жизнь!
Там осень поздняя свистела и пробирала этажи.
Мне дали площадь в этом доме. Там с потолка в тазы текло.
И лист лепился на стекло,
как бы пришлепнутый ладонью.
Катилась ночь. Будильник тикал. Горел ночник, я был один.
Я Томку, пахнущую стиркой, глубокой ночью приводил.
Я приводил ее, не зная ни угрызений, ни обуз.
Трещала лестница ночная, как первый снег. И как арбуз.
Катилась ночь, игла шипела, проигрыватель жмурил глаз.
И покрывал концерт Шопена смешные звуки наших ласк.
Она орехи грызла робко, комочком сидя у стены,
и над ключицей - подбородком - держала угол простыни...
Зажить бы с ней простолюдином, к хозяйству голову приткнуть.
Но ведь не хлебом же единым... Хотя, и хлеб - не худший путь.
Я, как о веке золотом, подумал вдруг о старом быте,
когда простой российский житель, как с домочадцем, жил с Христом:
Его рожденье и крещенье, и дни духовного труда,
и смерть Его, и воскресенье, - он отмечал без потрясенья,
но с неким чувством иногда.
А кто снисходит к нашим бедам? В кого нам верить? С кем нам жить?
С родными? Может быть, с соседом? -
Так... Разве соли попросить.
10.
Когда на вечер, для души, нам подают экранный пудинг;
когда "желаем счастья людям" ("спокойной ночи, малыши");
и начинает нам желать большого счастья поэтесса,
смазливая, как стюардесса, и просветленная, как мать;
когда десяток мужиков, чтоб скрасить шлягера бескостность,
все десять острых кадыков
выкатывают, глядя "в космос";
и акробатка с акробатом, дабы счастливей сделать вас,
со стойкой, сальто и шпагатом танцуют "молодежный вальс";
когда, отражена в баяне, певица из дебелых дам
в кокошнике и сарафане - чуть не подмигивает вам,
катает букву "эр", как брёвна, березку требует любить,
сановно скалится и словно
зовет сообщниками быть, -
я всё боюсь, что эта прыть
имеет целью что-то скрыть.
Что именно? Нехватку масла? Подготовляемый указ
о росте бдительности в массах? Призыв уволенных в запас?
Введенье пыток? Смену власти? Волненье в братской нам стране?..
И то сказать: желают счастья.
Ох, не к добру. Ох, не по мне.
11.
Десятки лет под гром парада и под эстрадный гром и вой -
передо мной танцует Правда
с отрезанною головой.
Там, наверху, считают главным, чтоб видеть нам ее не всю.
Так отсекают ветки лавру. Так отсекают уши псу...
Неполон текст! И я гадаю: какая фраза отсеклась?
"Вся власть в руках у негодяев"?.."Вся жизнь подлажена под власть"?..
И всё? Так плоско? И так просто?
И это есть "эм-цэ-квадрат", откуда вылезут подряд
общесоюзные уродства?
По подворотне и Сократ?
Я чувствую себя задетым: язык пивных, подход казарм!
Но я связал себя обетом:
в России стыдно быть поэтом,
хотя бы это не сказав.
12.
Меня эпоха заедала. И разумеется, среда.
Но с аппетитом каннибала я заедал и сам себя.
Читаю вещи лет за десять - и правда, пухнет голова.
Да! Как сказали бы в Одессе - "никто тебе не виноват".
Любую мысль терял, не кончив, и от бессмыслиц погибал.
Зигзагом шел, как зверь от гончих. Какое место огибал?
Какой погиб во мне пятак, не получая оборота?
Я ДОЛЖЕН БЫЛ СКАЗАТЬ ВАМ ЧТО-ТО.
Сказать всерьез. Допустим, так:
"Пылинкой солнечной - Земля.
Пылинкой на Земле - мы сами:
меж внуками и мертвецами.
А Космос катится, пыля.
И в том, что малая частица
вбирает целостный глагол,
и в ней способны уместиться
и мчащаяся колесница,
и следом пыльный ореол, -
есть будоражащая тайна.
Как будто весть несет гонец,
что жизнь отчасти не случайна
и не бессмысленна вконец".
Неплохо. Но один из крючьев: Здесь - ты?.. Да нет. Скорее, Тютчев.
Вот ты и высказал, что мог. И псы иронии настигли.
Кто слал гонца?.. Да нет, не Бог. Бог не играет в наши игры.
13.
Буквально рядом, за стеной - охапки карнавальных масок,
рулоны арий, ведра красок; вон там, за дверью потайной.
А я по-птичьи не пою. Не мажу охрой по закату.
За трехкопеечную плату,
подобно автомату,
водой с сиропом не пою.
Не ставлю красную заплату на участь серую свою.
Беру я серый карандаш, молюсь, чтоб вывезла кривая,
и надо же, какая блажь - лицо, фигуру ли, пейзаж -
пытаюсь взять в один пассаж, карандаша не отрывая.
И не о сходстве хлопочу - хочу во всем найти УВЯЗКУ,
пока не наложили краску, не разоткали, как парчу.
Не столь рисую, сколь черчу.
И словно Господу в подсказку
закон творения ищу.
А Он, когда Его рука людей и вещи малевала,
не беспокоился нимало о завершенности штриха!
С концами не сводил начала. Оставил место для греха.
Ты усмотрел в рисунке ложь, но не тебе пенять на это.
Раскрашивай, пока живешь. Ведь всё открытие поэта -
открыть в себе, что мир хорош.
Так поднимись, айда на склад, где бочки зелья прогнивают.
Пей, потчуй! Ты не виноват. Везде, где лгут и убивают,
артисты маски надевают
и уцелевших веселят.
Но я с прикушенной губой
самолюбивого педанта
опять ловлю предмет любой в изгибы линии тугой.
И вот он в чем, ущерб таланта!
14.
И все ж ценю свои стихи. За их ненужность в обиходе.
За их обличье не по моде. А это всё не пустяки.
Одни стихи берут, как розы. Другим стихи - как образа.
А я всегда стеснялся позы. И не колол собой глаза.
Я человек не легендарный: не бил других и не был бит.
Не слишком умный, чуть вульгарный, легко скисаю от обид.
Какой конфуз: любимец муз не подтвердил былых восторгов.
Я, гордый трус, безмастный туз, не стал козырною шестеркой...
И всё же: где ты, современник? Путей чураешься кривых?
Забыл себя в добыче денег? Молиться идолам привык?
Ну, где уж на меня молиться... Ты просто окажи мне честь -
всё это медленно прочесть, встряхнуться, сморщиться, озлиться...
И вдруг увидеть всё, как есть!
Чужой салонам и эстрадам,
я жил одним с тобой укладом, но отзывался как поэт.
Ты что, чудак? Ведь я же рядом.
А для тебя - что был, что нет.
15.
Сойдемтесь, лишние поэты! Когда б мы с бабами легли,
им вряд ли вздумалось бы это: считать нас лишними людьми.
Пусть потерялась наша слава: ГБ вставала поперек,
и зав. стихами Окуджава от нас поэзию берег
(высокий строй душевных строк).
Ну, что за невидаль - забвенье. Кто знает многих? Диссертант?
А нас, как бесов: до черта. Устроим же ночное бденье!
Достаточно карандаша. Не надо публики и прессы.
Всего лишь Слово и Душа - вот персонажи этой пьесы.
Не будет актов и картин. Проста сюжетная основа:
Душа в слезах, как блудный сын,
вернулась в Слово.
Захочет - скажет, где была. Не для отчета и ответа
(о Господи, при чем тут это?) - вернулась, вот и все дела.
Хоть грабь на столбовом пути. Хоть карты крапь. И трижды битым,
шныряй по баням содомитом. Лишь Душу Слову возврати!
Душа и Слово. Миг вдвоем. И этот миг оборотится
явленьем "Франсуа Вийон". Или "Евгений Боратынский"...
16.
Поэмы, сгнившие во мне! Внушенные, быть может, Богом!
Кирзовым ямбом, крепким слогом прикончу жившее вчерне.
Какая власть за мной гналась? Кто одиночества не додал?
В меня врастилась несвобода: ни слова вдрызг, ни жизни всласть.
Хотелось бы себя слепить - и в пустоте расставить комья.
Как дзен-буддист: себя не помня. Себя положено избыть.
Глянь из меня, предвечный Зритель! Утешь меня: утешься мной.
И я вберу предсмертный зной
чужих песков, чужих событий.
1965 - 1987